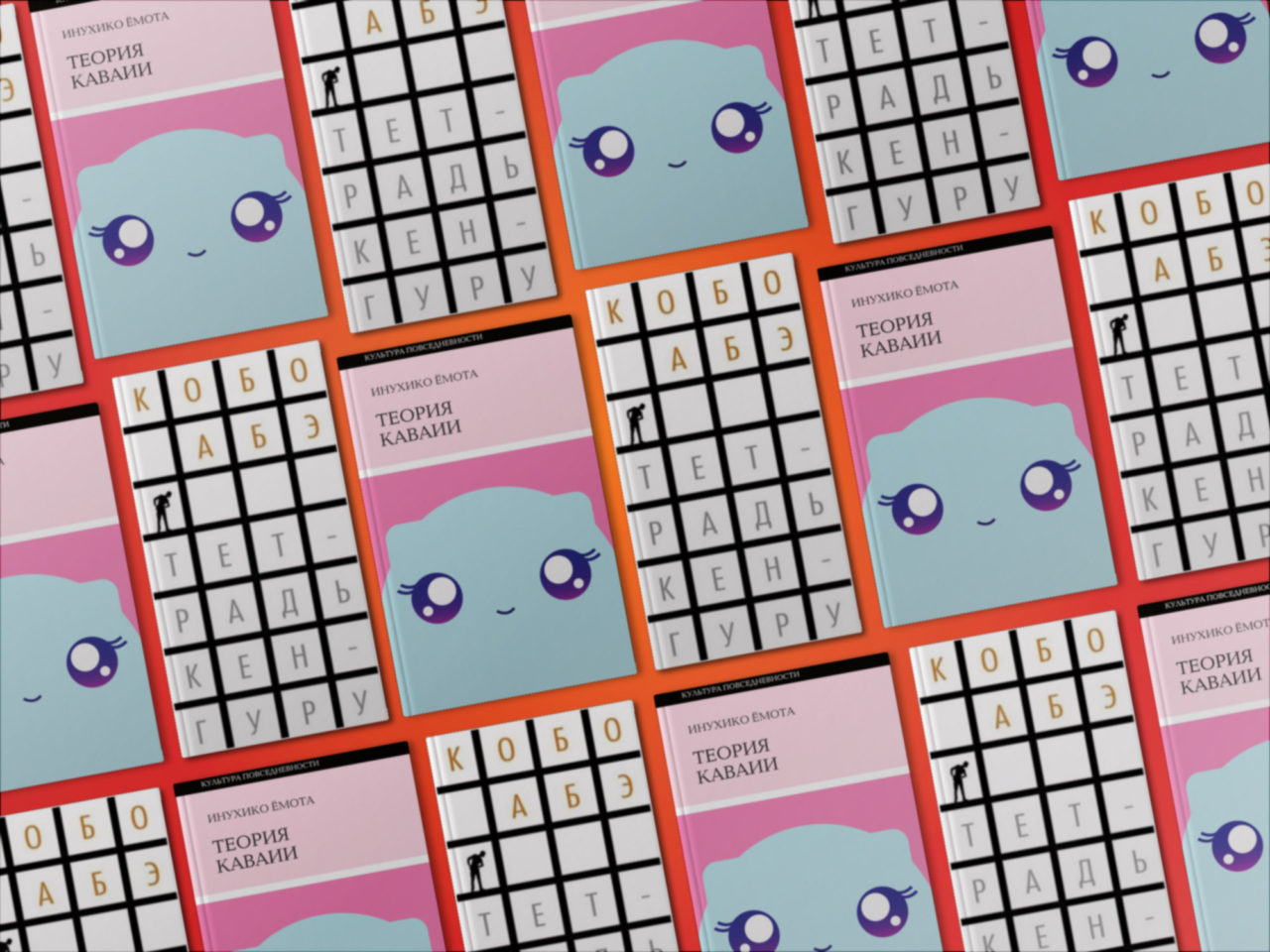Кобо Абэ. «Тетрадь кенгуру». «Азбука-Аттикус». 2017
Шесть утра, молодой мужчина ждет открытия больницы. Он уже взял талон, но медсестра говорит, что если нет высокой температуры, то вне очереди пройти не получится. Ноги мужчины покрывает молодая поросль дайкона, местного редиса. Это растение едят по всей Японии каждый день, в том числе и доктор, который осматривает этого странного пациента.
В повести Кобо Абэ «Тетрадь кенгуру» действие происходит в двух пространствах: Японии в конце XX века и мире фантазмов и снов, в котором большую часть времени пропадает пациент-рассказчик. Специалистов по его заболеванию нет, единственный совет — отправиться к серным источникам в Долину ада, может, там редис перестанет расти из его тела. Опыты показали: если пересадить отростки растения в землю — ничего не происходит. Редис питается человеческими соками, словно замкнутая и самодостаточная экосистема.
Кобо Абэ в каждом своем тексте исследует отношения человека с его телом и между индивидом-маргиналом и обществом. Больше всего появление редиса волнует саму жертву этого волшебного превращения. Врачи, медсестры, другие пациенты — все они подходят к проблеме прагматично. Хоть случай и необычный, но в капиталистическом мире можно вылечить все. Впрочем, лечить никто не пытается. Доктор выталкивает больничную мобильную кровать с рассказчиком в ночь, вместо рецепта прописывая серный источник. В другой сцене медсестра недовольно замечает, что «самые неприятные пациенты — кто зациклен на себе». Метафорически вся эта сцена напоминает то, как система избавляется от неудобного человека, которого сложно встроить в привычные механизмы.
Все аномальное находит место в фантомном, онирическом мире рассказчика: хор «Помоги», состоящий из оборванных детей-демонов, клянчит у туристов наличность, потому что финансирования на их воспитание у муниципалитета не хватает. Прагматизм героев Кобо Абэ укоренен в систему победившего капитализма. Главный герой даже в своих кошмарах обещает, что как только он вернется в больницу, то отдаст своим помощникам все одолженные деньги, а один из его новых знакомых напоминает рассказчику о том, что страховка действует даже в аду.
К середине книги пациент уже не боится своей аномалии, а пытается рационально решить проблему — насколько это вообще возможно, ведь большую часть времени рассказчик проводит в полубессознательном состоянии. Редис не только выделил одного пациента среди других и отдалил его от здорового общества. Появление этого растения заставило рассказчика постоянно думать о своем теле, о том, как его видят другие люди. Медсестра не воспринимает его как мужчину, потому что обросшие зеленью ноги не вписываются в ее представление о сексуальности. Некоторые попутчики и вовсе принимают его вместе с кроватью за предмет, рассказчик даже замечает: «У меня такое ощущение, что я уже долго живу в аду, хотя еще не умер».
Нарциссизм, навязанный неожиданной болезнью, оставляет героя только в конце книги. Он попадает в отделение, где обсуждают право на эвтаназию и хотят помочь уйти из жизни одному старику. Но вскоре рассказчик опять возвращается к своим проблемам с почти гамлетовским монологом: «Ну что? Две позиции. Какую выбрать? Предположим, окажется, что мой дайкон — болезнь неизлечимая. Соглашусь ли я на эвтаназию? Если эти ростки невозможно вывести, их можно скрывать под носками. Но вдруг рассада станет распространяться по всему телу, прорастет в глаза, нос, уши, рот, затем в уретру, в задний проход? Вдруг в конце концов я превращусь в растение, напоминающее огромный клубок зеленых водорослей? Тогда, конечно, эвтаназия — единственный выход. Наверное, за человеком должно быть закреплено право на самоубийство».
Пациент задумывается о своей прошлой жизни и о работе в фирме, которая занимается канцелярскими товарами, лишь в конце книги. Анормальность выбивает его из привычной истории. Более того, о нем никто не вспоминает и не беспокоится, только в одном из бредовых состояний он встречает в капусте свою умершую мать. Почти все время пациент путешествует, словно все пространства для него чужие, а домом можно назвать только кровать, которая появляется в каждой сцене и чуть ли не преследует главного героя.
«Тетрадь кенгуру» напоминает другую культовую повесть Кобо Абэ — «Человек-ящик», в которой герой надевает на себя картонную коробку как ответ капиталистическому миру, который на него постоянно смотрит и тем самым «потребляет». В «Тетради кенгуру» контакт с миром обрывается еще жестче. По сути, редис появляется на ногах рассказчика как наказание за нерациональное предложение, которое тот высказал своему шефу на работе. Все начинается с незаметного отличия, а заканчивается окончательным изгнанием.
Читать на Bookmate
Инухико Ёмота. «Теория каваии». НЛО. 2017
В 2004 году японского ученого Инухико Ёмота пригласили прочитать курс лекций в Косове. В здании университета размещался лагерь для беженцев: «Пока сербы и албанцы яростно боролись в здании бывшей младшей школы, которое временно использовалось не по прямому назначению и куда меня несколько раз приглашали, по телевизору опять крутили “Сейлор Мун”. Анимэ показывали как есть, в оригинале: ни титров, ни перевода, никаких пояснений. Несмотря на это, дети беженцев не могли оторваться от экранов, сидели как прикованные». Девочка-луна, которая немного растеряна, проста и всегда побеждает зло, завоевала сердца миллионов зрителей по всему миру. Ее образ представлял на Западе популярную культуру Японии 1990-х. Слишком большие для обыкновенного человека глаза, другая одежда, частые вскрики главной школьницы, которая стала супергероиней, — все в этой девочке выглядело «кавайным», милым. В 1998 году The New Yorker выбрал покемона, другого носителя кавайности, Человеком (персонажем) года.
Манга, анимэ, фильмы, сувенирная продукция (мерч) — лишь одна, материальная сторона индустрии няшности. Уютные сюжеты, персонажи, звуки и картинки с 1990-х по 2000-е стали важной частью экспорта Японии на мировой рынок. Страна, которая долгое время находилась в добровольной самоизоляции от европейской цивилизации, начала поставлять в другие страны эстетику каваии.
В своей книге киновед Инухико Ёмота рассказывает о возникновении «милого» и «безопасного» стиля в популярной культуре Японии и описывает основные этапы экспансии каваии на Запад. Ученого интересует, как менялось значение слова «каваии» в японском языке, и автор в рамках своих путешествий в Европу и Америку пытливо ищет — есть ли аналоги этого понятия в других культурах (почти нет). Ученый методично анкетирует сотни своих студентов, пытаясь разобраться в гендерных особенностях этого явления: оказывается, что мальчики реже хотят быть кавайными, чем девочки, которые в свою очередь сравнивают такую оценку своего образа или поведения с мгновениями счастья. Инухико важны повседневные значения и обстоятельства употребления этого слова. Социологический взгляд ученого обращается к обложкам журналов — кузнице гендерных ролей в обществе потребления для тех, кому до двадцати пяти, и имиджа для более взрослых.
Размышляя об эстетике каваии, автор исследует другой, возможно, более важный вопрос: почему одни произведения искусства популярнее других. Он замечает интересный парадокс: «“Лишенные гражданства”» романы Мураками переводятся на десятки языков, тогда как романы Кэндзи Накагами, в которых силен местный колорит, не популярны за рубежом в той же мере». По сути, вместе с рассказом об истории и употреблении каваии мы узнаем, как работает память туриста, который находит в романах Мураками атмосферу «японского мира» без погружения в национальные детали. В одной из глав ученый рассматривает носителей этой атмосферы — сувениры как символ кавайного. Маленькие, чаще всего безобидные и милые фигурки можно забрать с собой как воспоминание, но скорее не о самом месте, а о том, что ты там когда-то побывал. Сентиментальность, погружение в приятное прошлое становится фундаментом для забвения, отказа от исторической реальности со всеми ее проблемами и недостатками.
К концу книги становится ясно, что исследователь превратился в камеру, регистрирующую кавайность повсюду. Он замечает изображения котят даже в душевых Освенцима. Эта находка — точка невозврата. Изначальное сообщение рисунка настолько не совпадает с ситуацией, что, «глядя на каваии, за которым скрывается представление о страшной трагедии, люди, быть может, уже не станут послушно восторгаться Hello Kitty, не говоря уже о том, чтобы преподносить ее друг другу в подарок».
Инухико, уже прощаясь и распределяя благодарности, призывает коллег и читателей к обсуждению и критике его сочинения, написанного по случаю. Ведь Инухико Ёмота не может назвать себя специалистом по манге или другим хранилищам кавайности. Он стал каваистом по ходу рассуждений над самыми разными сюжетами мировой культуры: от картин наивного художника XIX века, который рисовал бесконечные приключения крошек-воительниц, до японской литературы XX века, не столь известной за пределами Страны восходящего солнца. И первая русскоязычная критика этой книги ждет нас прямо в обширном предисловии переводчика, япониста Александра Беляева, который считает своим долгом перед русским читателем выстроить связи между примерами кавайности из японской и русской культуры. В ходе наведения этих мостов Беляев отыскивает не столь очевидные кавайные примеры у Грибоедова и Набокова и заодно указывает японскому коллеге на тематические книги, почему-то оставшиеся без внимания.
С учетом некоторой вольности стиля и множества исследовательских стратегий книга Инухико Ёмота оказывается самой доступной историей няшности, переведенной на русский язык. Ученому удалось совместить задачи просвещения с жанром путешествия ученого, который формулирует функции каваии для представителей разных культур: «Человеческое общество ощущает себя беспомощным, если оно никого не защищает и не обороняет».
Читать на Bookmate