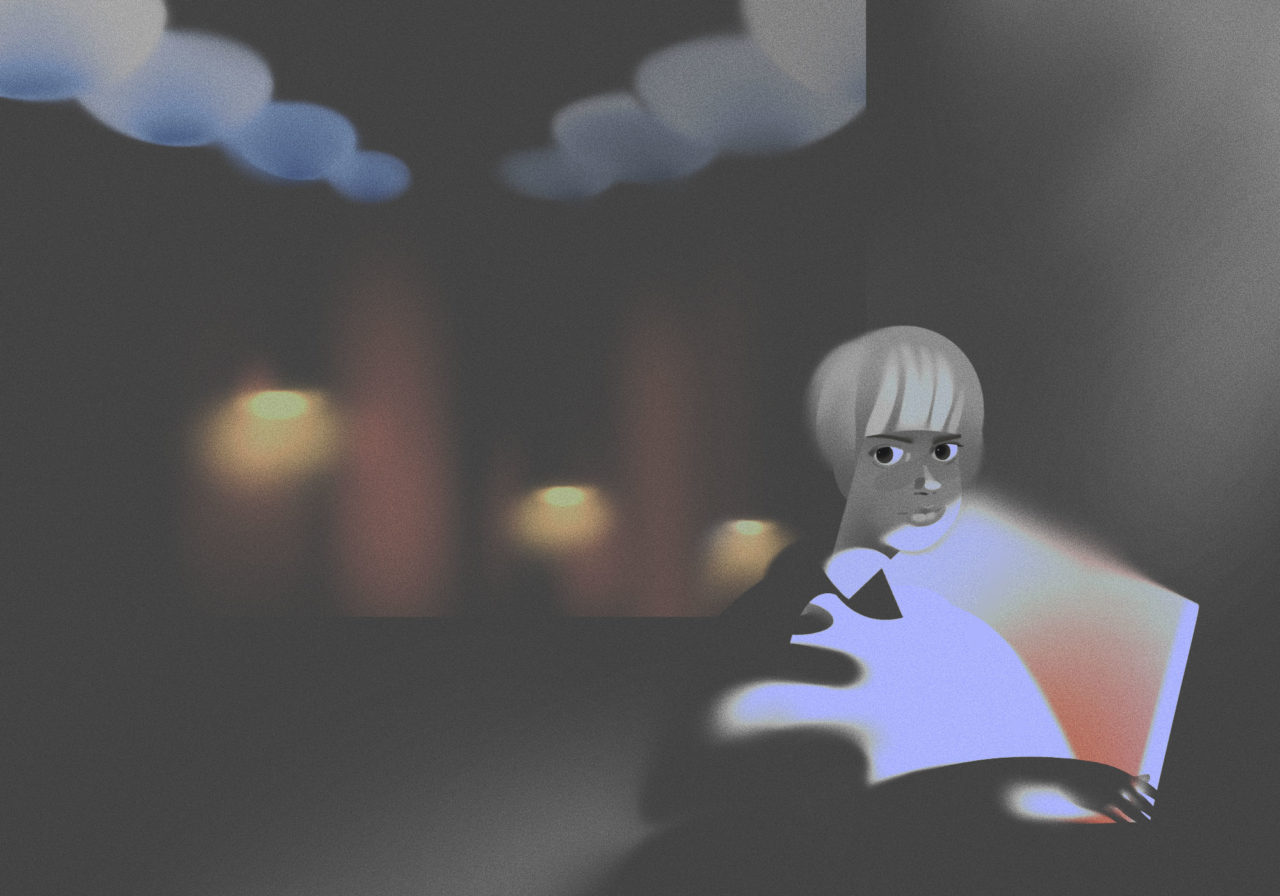«Страдания и боли — важные инструменты»
— Сначала про то, что волнует всех: сценаристам платят сильно больше, чем журналистам?
— Когда ты после журналистики приходишь в сценарный мир и тебе говорят: ты сейчас получишь 600 тысяч [рублей], — и у тебя так немножко плывет перед глазами. Думаешь: я сейчас все свои проблемы решу, отдам все долги, кредиточки закрою и буду жить счастливо. Но потом понимаешь, что все это делится на 12 месяцев, и уже как-то не так звучит.
Сценаристы, безусловно, получают больше в разы — просто журналисты получают очень мало. Ты заходишь в метро, садишься в вагон и смотришь: «Приглашаются машинисты! Сутки через трое, шестичасовой рабочий день, зарплата от 70 до 90 тысяч рублей». Вау. А я работаю семь дней в неделю, 27 дней в неделю, [мне] могут позвонить в час ночи: «Лен, ну где уже все, мы ждем».
У многих людей есть миф, что ребята из кино все богатые. Есть и такие, но если ты делаешь относительно независимые вещи, то разбогатеть сложно.
— Ты пишешь сценарии, но время от времени продолжаешь писать и журналистские тексты. Это инерция или осознанное нежелание прощаться с прошлым?
— Я никогда не говорила себе, что ухожу из журналистики. Это очень важная часть моей жизни — связь с фактурой. Чтобы кино было ею пронизано, чтобы не было абстрактного художественного мира. Даже если я пишу ужасно жанровую историю, там всегда есть какое-то преломление с жизнью. Во-первых, по-другому мне неинтересно, а во-вторых — кажется, что я вру где-то [если нет преломления с жизнью].
— Это так опыт работы журналиста влияет?
— Мне кажется, ты работаешь журналистом из-за стремления к правде, чтобы чувствовалась жизнь настоящая. У меня куча есть знакомых, занимающихся кино, которые говорят: «Мне вообще пофиг, я придумываю абсолютно сконструированную реальность, вообще не важно, чтобы это было похоже на настоящий мир».
Мне же кажется, что даже если ты пишешь фэнтези, но тебя не колышет правда, то потом зритель сидит в кинотеатре и думает: «Че-то какая-то хрень». Даже если это Game of Thrones.
— Сценарии много раз переписываются?
— Очень. Сценарий — на самом деле это бесконечная редактура. Ты думаешь, как будет сложно написать сценарий, но самый травмирующий опыт — это бесконечное переписывание, и особенно если ты работаешь в условиях цейтнота.
Когда ты работаешь в цейтноте, ни у кого нет времени на расшаркивания и тебе обычно не говорят, что хорошо получилось. Просто живешь в ситуации: это полный *** [провал], это срочно надо переменить, здесь не работает, же-е-е-сть! И ты впадаешь в депрессию и думаешь: я бездарность.
— А почему часто приходится работать в цейтноте?
— Независимые продюсеры понимают, что если они не продадут пять фильмов за год, то они просто не окупят съемки. У них нет денег, чтобы запустить пять сериалов медленно. Они говорят заказчику: «Мы вам сделаем такое качество за полгода». Потом приходят режиссер и сценарист: «Вы что, ребят, *** [одурели], а как мы это сделаем — не вы, а мы?» «Да вы же суперские, вы такие талантливые, вы все одолеете».
Первый месяц ты проводишь спокойно, на втором уже что-то не то, а третий и четвертый ты просто не спишь и думаешь, зачем в это ввязался.
С одной стороны, ты ругаешь их [независимых продюсеров], а с другой — понимаешь: если бы не было их, то не было бы этих фильмов странных. Потому что большие ребята с деньгами просто такое не хотят делать. А маленькие вынуждены как-то крутиться.
— Более нервно, чем журналистом с редактором текст редактировать?
— Журналистский текст — 20 страниц, а тут 100. Еще один драфт. Еще один драфт. На «Оптимистах» у меня было 11 итераций одной серии. На 60 процентов переписывалось каждый раз — это шизофрения полная. Сейчас у меня вот четвертый драфт, я вчера вечером сижу и уже не понимаю, хороший это диалог, у меня уже выключено все. Я такая: нет, мне надо на него сутки не смотреть.
— И что ты делаешь в такой ситуации?
— Я хожу, чтобы освободить голову, и абсолютно бесцельно — важно, чтобы бесцельно, — брожу, хожу. Это такая медитация на самом деле. Иногда интуитивно происходит, само пишется, а иногда не пишется. И потом как-то ба-а-ам — и приходит.
Страдания и боли — важные инструменты и предмет изучения. Как тема. Все люди очень страдают, мне интересно смотреть, как люди из этого выбираются, какие они находят механизмы спасения. Мне интересно, где страдания и любовь. У меня православное воспитание, но очень правильное, не в смысле «нельзя-нельзя-нельзя», а «любовь-любовь-любовь».
В церковь редко хожу. Я, например, медитирую, для меня это вещи, не отрицающие друг друга.
«Какая классная девчонка, она, кстати, лесбиянка»
— Где в России взять денег на свой сериал? Только у государства?
— На телеканалах — либо государство, либо, если это частный канал, — деньги, которые зарабатываются на рекламе. Она очень дорого стоит.
Дальше успешные сериалы продают на Украину, в Румынию, на этом тоже зарабатывают деньги — и могут позволить себе еще один сезон. А [стриминговые] платформы продают [ежемесячные] подписки.
Пять лет назад говорила с Сашей Дулерайном, который был тогда главным продюсером ТНТ, мы все пытались что-то сделать вместе, он говорил: «Лена, ну это для каких-то умных очень людей, вот если бы у нас была платформа, там бы мы это с радостью сделали». Я отвечала: «Саша, а что вы не сделаете платформу? Там же можно было и для умных, и кровищи, и все что хочешь». А он считал, что проблема в том, что русский человек вообще не готов платить за подписку — он все скачивает.
— За пять лет ситуация поменялась? Теперь никто не обламывается покупать подписку и смотреть сериалы через «Нетфликс» или «КиноПоиск HD». Стриминг меняет мир к лучшему?
— Комфорт, комфо-о-орт — он своими щупальцами всех затягивает.
Я не знаю, к чему он меняет мир, но по крайней мере делает более честным взаимодействие. Мне это приятно, потому что [если] ты, Петя, Вася, еще 250 тысяч человек реально заплатят за то, чтобы посмотреть «Министра» на платформе, я смогу снять второй сезон.
— Но ты видишь какие-то проблемы, связанные со стримингом?
— Сериалы отрабатывают общественную повестку так или иначе. Сейчас важна фем-повестка. Когда ты смотришь кино или сериалы, ты не задумываешься, что у тебя создают определенное мировоззрение. Ты смотришь и думаешь: ой какая классная девчонка, она, кстати, лесбиянка, лесбиянки, кстати, не такие ужасные. А почему я это думаю?
Кино — это сотни людей, тысячи, которые пришли в кинотеатр. А сейчас миллионы людей смотрят сериалы всей семьей у себя дома. Не могу сказать, что стриминговые платформы меняют мир к лучшему, потому что не знаю, как они его меняют. Может быть, однажды окажется, что мы сидим перед «Нетфликсом» и больше ничем не заняты. И это вся наша социальная жизнь.
— Кстати, про фем-повестку. «Сценарист» или «сценаристка»?
— Раньше мне всегда нравились «сценарист» и «журналист», не нравились феминитивы. Но недавно я включила Земфиру и вдруг поняла, что половина ее песен написана от мужского лица. А я пишу стихи очень давно, с детства. Я вспомнила, что раньше и я тоже все время от мужского лица писала. Лет десять назад перестала это делать.
Сейчас это немыслимо, просто жуть какая-то, в смысле какой «шел» [а не «шла»], куда, почему?! Я решила, что хватит этого «журналист», надо говорить «сценаристка»!
Круто, что так быстро все меняется. Еще пять лет назад мы вместе с Мишей и Лилей Идовыми написали заявку на классный сериал короткий, там главный герой — женщина, прости господи. Нам говорили: «Ну-у-у-с-с-с, прям что, прям главный? А давайте, может быть, еще какой-то мужчина? Ну все-таки… Ну просто странно… У нас не будет аудитории!»
Если ты включишь русский телик, там все время убивают, расчленяют. И это никого не пугает. Если мы скажем: давайте просто секс покажем, обычный, между мужем и женой хотя бы, тут уже сразу [возрастной рейтинг] 80+.
«А что это за задрипыш? А, это наш сценарист»
— Сериал Game of Thrones («Игра престолов»), среди прочего, ввел в употребление странное слово «шоураннер». Кто это?
— Когда ты делаешь сериал, то там, в отличие от полнометражного кино, надо держать в голове не один фильм, а 12 серий. Это если у тебя один сезон. Что происходило с героями, как они менялись, какие были события. Шоураннер — это и сценарист, и продюсер. Он главнее режиссера часто.
Эпоха новых сериалов невероятно возвысила сценаристов. Сценарист вообще ужасно сложная работа, в мировой культуре всегда было принято так: ты написал сценарий, отдал его — и все. И над ним надругались, переделали, оставили от него три буквы.
Шоураннер — это сценарист, который придумал этот проект и вел его, был мерилом. Он имеет вес практически такой же, как продюсер. Продюсер апеллирует к деньгам, к продажам, шоураннер апеллирует к тексту.
В России догмат продюсера. «Зачем ты будешь, сценарист, вставлять еще какое-то свое слово. Чем меньше у тебя влияния, тем нам удобнее».
Сценарист по законодательству просто отчуждает все права на то, что он пишет. Если его будут перепродавать, ты ничего не получаешь. Люди становятся ужасно богатыми, а ты не становишься. С тобой никто не хочет делиться никакой властью.
— Должно быть, болезненно, когда ты отдаешь на поругание свою работу и тебе после выплаты гонорара никто ничего не должен, в том числе и морально.
— Для многих — очень. Дэвид Мэмет, великий драматург, писал, что для него вообще нет такой проблемы. Он в театре работал — ему нравится отдавать и смотреть, как рыбка в воде во что-то другое превратится.
Но обычно это болезненно. Никто тебя не понимает и не знает. Ты уже и на премьеру пришел . «А что это за задрипыш? А, это наш сценарист, ой, хорошие диалоги, спасибо». Ты не участвуешь в процессе. Съемки — это невероятное чудо, это фантастика. А ты со своим листом как сыч какой-то. Поэтому многие сценаристы сами хотят стать режиссерами.
— И ты тоже?
— Безусловно, но я не хочу быть режиссером всех работ, которые пишу. Но я хочу быть параллельно режиссером тоже. Это опять про язык: есть такие вещи, которые я могу точнее рассказать как режиссер.
— Ты говорила, что вообще никогда не читаешь и не смотришь критику на свои работы. Это до сих пор так?
— Уже поменялось… Не то чтобы я гуглю: «елена ванина сценарист говно». Но иногда смотрю. Мне пишет друг: «О, там тред, где так обсирают “Министра”». А, да? Думаю, 10 минут, 20 минут… Ну где, ладно?
Я очень тяжело это переживаю, прямо на физиологическом уровне: мне становится плохо, у меня сводит шею. Не потому, что я думаю: я очень плохая, я недостойная. Мне просто плохо. А вот представить себе, что я, например, опубликовала стихи, а кто-то написал бы, что это бесталанность, — вот тут бы я [вообще] впала в черноту.
— За стихи ты больше переживаешь?
— Это вообще самая скрытая в жизни область и самая любимая, мне всегда казалось, что я могу себя назвать сценаристом, журналистом, но никогда не могу назвать поэтом, потому что поэт — это ответственность перед вселенной.
У меня образование филологическое: я филолог-русист с красным дипломом, прости господи, окончивший университет, и поэтому у меня вот это вот: великие поэты, а ты кто?
Я люблю поэзию как какой-то один текст. Нравилось, как кто на кого влияет, кто кого цитирует — рассматривать в глобальном шаре. Моя дипломная работа была посвящена ритмической цитате. Это когда поэт цитирует другого поэта не конкретной строчкой, а берет ритмический рисунок текста и его заимствует. Поэты — *** [упоротые].
У меня весь пол в комнате был в карточках с ритмическими рисунками, я почему-то стала по дому ходить в шапке — закрывалась. Была уверена, что Мандельштам у Гумилева процитировал одно стихотворение на уровне ритма. Но никакой абсолютно подсказки не было. Как я только не искала.
Гумилев процитировал в этом стихотворении Анненского. Я подумала: может, Мандельштам взял Гумилева на уровне ритма, а Анненского — на уровне слов. Тут мне снится сон: я у себя на кухне пью чай с Гумилевым и Мандельштамом — и один другому говорит: «Ну старик, вот ты меня процитировал, конечно, хорошо». Я просыпаюсь, вскакиваю, бегу к маме: «Мама, точно, это мне вот… приснилось». И уже понимаю, что я в том же тупике.
— Было еще в жизни, чтобы ты с ума так сходила по какой-то теме?
— Нет, но я всегда очень ухожу в процесс, сестра надо мной смеется: я когда работаю, я только работаю, никого не вижу. Это тоже собственный побег. Я туда ухожу, и мне вроде комфортно.
— А так некомфортно?
— А так очень много вопросов к себе, к миру и к жизни. Там ты все контролируешь. Я смогу со всем разобраться — здесь, ребят, не могу очень со многим разобраться.
«Ты ЛГБТ везде легализовала, а русские люди этого боятся»
— Почему многие российские сериалы такие убогие? Вот все это неописуемое днем по каналу «Россия».
— Потому что они не про реальных людей, а про представления. Представления о ценностях. Им не очень разрешают — я имею в виду госканалы — делать так, чтобы люди больше задумывались о каких-то вещах. Если мы, например, будем делать сериал и там будет, например, политзаключенный, гей, еще кто-то, люди подумают: ой какая интересная проблемка, дай-ка пойду до нее докопаюсь, а может, я зря думаю, что они все американские агенты, как мне Соловьев рассказывает.
— Серьезно, редактор с канала сидит и думает об этом?
— Да. «Это слишком остро». «Давайте этого не будем». У Ромы Волобуева было смешное: [в фильме] был поцелуй двух девушек. Для Минкульта они должны были обязательно получать бумагу, что это оправданно. Сейчас ты никогда этого уже не получишь. Но это было лет десять назад.
— То есть буквально: эта бумага выдана такому-то человеку на такой-то фильм, что происходящее на такой-то секунде имеет…
— Имеет художественный смысл. Да-да-да.
Я много работала с теликовскими продюсерами: там есть представления о том, чего хочет русский зритель.
— Откуда эти представления? Из жизненного опыта?
— Вот как наши правители придумывают некий образ нашей страны: патриархальная, с такими-то устоями, ей надо вот это, а не надо это. Телик часто ориентируется на женщин. Они забывают, что уже сейчас люди, которым 55 лет, — это не те, которым 75 лет, это другие люди и довольно во многом часто современно мыслящие.
Хотя ты отъезжаешь немного в сторону от Москвы и понимаешь…
Мы с Сашей Расторгуевым делали документальный большой фильм для «Норильского никеля». Он в итоге не вышел, практически полгода на Кольском полуострове торчали, на этих заводах. Я туда приехала и общалась со всеми этими парнями, которые шахтеры.
Разговариваем с одним из них, и он говорит: «Блин, слушай, ну ты такая интересная девчонка, с тобой поговорить можно. С моей Настюхой мы никогда не разговариваем». Спрашиваю: «А че ты, пробовал с ней поговорить?» Он отвечает: «Да не, а как?»
Я понимаю, что от моего представления, как устроен мир, до того, как он действительно устроен, далеко. Часто так же думают и редакторы: «Ты, Лена, уже ЛГБТ везде легализовала, и все у тебя прекрасно. А люди-то русские этого боятся. И не нужно их пугать».
— Но это не оказывается правдой?
— Не оказывается. Это же не так, что мы едем и пишем о том, как живут те русские люди.
— Работая с «Норникелем», ты не думала о том, что делаешь что-то не очень хорошее?
— Мы много про это говорили, что получается обеление, но все эти люди говорили: «Классно, что они тут есть, когда их не было, вообще не было никаких денег». Это все очень сложно. Нельзя сказать, что «Норникель» — это какое-то очевидное зло, нет, это неправда. Они много всего делали для этих городов, для людей.
С другой стороны, Пивоваров на нас все время орал: «Вы за их деньги хотите сказать, что они мудаки? Вы как-то определитесь».
Мы нашли потрясающих героев, они посмотрели на них и сказали: «О-о-ой… какие-то очень депрессивные у вас герои». Мы сказали: «Ребята, это такая у вас жизнь». И это, кстати, вообще были не депрессивные герои — это не то чтобы мы показали женщину с раком легких.
— Получается, пиар-служба «Норникеля» в большей мере вас использовала, чем вы их?
— Да как сказать. Никто никого не использовал, потому что они не получили того, чего хотели, а мы не смогли реализовать то, что хотели мы.
«Мир продолжится после моей смерти. Что за несправедливость?»
— Расторгуев был твоим другом?
— Ох, слушай. Мы дружили — не сказать, что мы очень близкие друзья были. Саша влюблялся и влюблял в себя. Как-то он озарял, хотя с ним тяжело было работать, он мог сказать, что ты тупица, бездарь, что ты предаешь все.
Мы стали друзьями на время работы над «Кольским». Это уже было для него довольно сложное время — лет пять назад. Он был неудобный для работодателей, он всегда говорил напрямую, никогда не мог идти на компромиссы.
Саша вдохновлял на бескомпромиссность к искусству: лезь, лезь, не останавливайся. Многие люди после его смерти, его близкие друзья, сделали мощный рывок. Человек боялся быть оператором полного метра — а у него уже три полных метра. Какая-то ответственность перед Сашей появилась.
Но это очень было тяжело пережить. Мы с ним поругались перед его поездкой в ЦАР. Были тексты, за которыми я должна была следить, но не проследила, они получились средними, Саша мне говорил: как, вот это безответственность, как ты могла. Для Саши самое страшное — дежурно, лучше никак или очень *** [плохо], только не дежурно. Когда тебе все равно — ты умер. Я на него ору, он на меня орет: «Саша, просто иди на *** [три буквы]».
Он пишет: «Лена, да меня все *** [достало], у меня вообще билет на войну». И меня как-то укололо. Жуткое предчувствие было. Я не могу этого объяснить. У меня какая-то мысль, такая, вжух: он не вернется. У него было отчаяние, ощущение было, что перед ним глыба, он пытается ее сдвинуть, а она никак не сдвигается.
Потом, когда он уже был в ЦАР, он поставил лайк на мою фотографию в инстаграме, причем не первую, а какую-то двадцать пятую. Я думаю: ну все, Саш, дружба снова. Когда я увидела, что в ЦАР убиты русские журналисты — а я не знала, что он поехал в ЦАР, — я сразу знала, что это он. Это было невозможно.
— Это ощущение обрыва проводов, когда друг умирает,— оно со временем проходит?
— У меня через полгода после Саши умер отец. Я очень тяжело переживала смерть Саши — а потом и смерть папы. Ты только чуть-чуть отошел, и бабах — еще сильнее. Сначала тебе кажется, что ты не можешь этого пережить, а потом приглушается. У меня дома стоят фотографии Саши и папы маленькие. Мы на Сашины похороны напечатали маленькие фотографии, где он помладше, друзья присылали самые любимые, и на поминках были много-много его фотографий, которые можно было себе взять. А потом то же самое я сделала на папиных. Вот они у меня стоят там, юные и маленькие.
Это тебя абсолютно меняет. Связь со временем, наоборот, становится более сильной, ты же все равно не можешь перестать по человеку скучать.
В этом мае мы начали делать фильм про подростков на карантине. Они сами себя снимали абсолютно расторгуевским методом и присылали нам материал. Кажется, еще не наступил первый локдаун, мне позвонила директор фонда «Шалаш» (фонд помощи детям с трудным поведением — прим. ТД) Лиля Брайнис, сказала, что есть ощущение, что детям на карантине будет гораздо сложнее, чем взрослым.
Лиля предложила придумать формат, который помог бы с этой всей штукой разбираться. Я позвала своего постоянного соавтора Кирилла Кулагина, мы долго думали и потом решили, что это будет телеграм-канал, где четыре дня в неделю будут появляться короткие задания либо от нас, либо от всяких классных наших знакомых и друзей. Задания так или иначе были направлены на то, чтобы по-другому посмотреть на обстоятельства, в которых ты оказался: ребята, стойте, давайте попробуем увидеть какую-то поэзию в маленькой комнате, в которой ты заперт. Ну правда, у детей редко спрашивают: как ты переживаешь, а что с тобой происходит?
Мы боялись, что будет все формально. Но они стали рассказывать с воодушевлением такие невероятные истории, что мы обалдели. Мы нашли совершенно невероятную героиню, с такой степенью откровенности она все снимала Прислала нам видео, где она под телевизор учится танцевать лезгинку, в другом — танцует со своим котом, в другом — бреет волосы наголо и ругается с мамой из-за этого. Другая девчонка сидит перед костром и говорит, как ей страшно взрослеть и что она не понимает, как быть взрослым. Мы смотрели все это, затаив дыхание.
И я думаю: интересно, Саш, тебе бы это понравилось.
— Это для тебя психологическое или трансцендентное?
— Трансцендентное. Мне бывает сложно, потому что я думаю: ну как же, где он, я должна его прямо сейчас остро почувствовать, где тот луч света, который падает на мою бумажку. Он не падает. В какой-то момент ты чувствуешь, что тебя куда-то двигает. Гораздо более необъяснимое, чем просто психологическое.
— А страха смерти не появилось?
— Это моя большая проблема — у меня ужасный страх смерти, нерациональный, с самого детства.
Мне было лет пять, я лежу на кровати. Типовые квартиры, на каждом этаже комнаты одинаковые: здесь маленькая, а здесь большая. Были сделаны с внутренней логикой. У меня был друг Костя Егорочкин, он жил прямо надо мной, его комната была надо мной, и кровать стояла так же, как у меня.
Я лежала и думала: вот как там Костя, как у него дела. Родители меня укладывали, а я часто не спала полночи или всю ночь, уже тогда была совой. У нас решетки были на окнах, фонарный свет — депрессивный моментик.
Я лежу и вдруг четко понимаю, что умру. Как-то примериваюсь к этому чувству. И не то чтобы мне некомфортно. Но тут вдруг я понимаю: я умру, а в жизни Кости Егорочкина ничего не изменится. Я клянусь, одно из самых острых впечатлений детства. Я зарыдала оттого, что мир продолжится после моей смерти, что за несправедливость? Все эти сраные фонари, кости егорочкины, машины, все продолжится, а просто не будет меня.
У меня бывают панические состояния, я засыпаю, меня подбрасывает так: я умру, физиологически это чувствую. Это не шутка, не сценарий, я правда умру.
Не то что мне будет ужасно жалко, что я умру, хотя, честно говоря, будет — мне все время кажется, что я не успеваю что-то сделать. Стоики говорили: нельзя бояться того, на что ты не можешь повлиять.
— И самураи тоже что-то такое говорили.
— Ну это все одинаковые ребята, мне кажется.
— Думаешь, после смерти там что-то ждет тебя?
— Я верю, во мне борются мистик, человек, который — которая — любит считывать знаки, а с другой стороны — ну мы взрослые люди, мы все понимаем.
Мы с моей подругой придумали сценарий, где священник будет служить для глухонемых. Я пишу знакомой: вот нам нужен священник грузинский. Она говорит, что есть такой священник, который перевел Библию на язык глухонемых. Ну вот, все идет к нам в руки — космос.
Приезжаем на окраину Тбилиси, очень интересно разговариваем, все круто. И он Машку, мою подругу и соавтора, спрашивает: «А вы верующая?» Она говорит: «А я верю в мультивселенные». Маш, зачем батюшке про мультивселенные загонять? Она начинает объяснять ему про мультивселенные.
Я жду, что сейчас он закроется и перестанет что-либо нам рассказывать. Тут происходит ровно наоборот: ему становится дико интересно, он начинает ее расспрашивать. В итоге он приходит к тому, что мультивселенные никак не отрицают наличие бога.
— Было бы тебе страшнее умирать, если бы ты не была журналисткой и сценаристкой?
— Мне было бы хуже. Для меня журналистика, сценарии — это терапия, попытка справиться с чем-то внутри себя.
— А это не попытка стать в большей степени бессмертной, остаться хотя бы в тексте?
— Я не знаю, я же не [Лев] Толстой, ну, может быть, я Толстой, но вряд ли уже. Мне не хочется так думать про свое творчество: насколько оно великое, чтобы не погрязнуть в миллиарде информации.
Ты останешься как big data — гораздо сложнее не потеряться, чем Толстому. Год назад вышел сериал —про него все говорят. Сейчас уже никто про него не помнит. Потому что такое количество текста вокруг — текста в глобальном смысле — это суперважно на данный момент, а дальше все растворяется.