«Такие дела» предлагают вниманию читателей новый рассказ Алексея Моторова, автора романов «Юные годы медбрата Паровозова» и «Преступление доктора Паровозова»
Есть люди не такие, как все. На них смотрят с восторгом, им пытаются подражать, на них равняются. В каждом большом коллективе обязательно найдется тот, к кому прикованы восхищенные взоры, кто всегда на высоте, о ком впоследствии слагают легенды. Некоторых таких особо выдающихся, встреченных мною за жизнь, я помню до сих пор. В пионерлагере «Орленок» мальчик по имени Саша Волков потрясающе играл на трубе марш из оперы «Аида». В спортлагере «Юный торпедовец» чемпион Москвы по классической борьбе Петя Клюев запросто подтягивался тридцать раз. А мой однокашник по медицинскому училищу Сережа Воронов сожительствовал с преподавателем по общему уходу Ольгой Сигизмундовной.
Что касается меня, то никакими особенными качествами я не обладал, сколько я помню, меня ни разу не ставили в пример, да и хвалили нечасто. Но однажды, много лет назад, я испытал по отношению к себе неподдельное и искреннее восхищение, чтобы не сказать преклонение. И длилось это ни много ни мало целые сутки. Но обо всем по порядку.
«Ты с мальчиком!»
Учась на дневном в Первом меде, я умудрялся дежурить ночами и сутками в той самой реанимации, где работал пять лет до поступления, что, конечно же, было не самым разумным, но на стипендию, имея семью, особо не разгуляешься.
Однажды, после окончания третьего курса, вернувшись из отпуска, я обнаружил, что мне влепили дежурство 31 августа. Мало того что 1 сентября мне придется ползти в институт не спавши, не евши, так еще, чтобы успеть к девяти, нужно умудриться сбежать до утренней конференции, а в реанимации с этим всегда было сложно. Ладно, разберемся.
Но не успел я зайти в раздевалку, как мне тут же ехидно сообщили:
— Ой, а ты сегодня с мальчиком!
С каким еще мальчиком? Давным-давно все медбратья отсюда сбежали. Дураков работать без сна, без отдыха, да еще за копейки с каждым годом становилось все меньше.
— Да! С мальчиком! С новеньким! — радостно подтвердили мне. — Со студентом! Он в сестринской сидит, тебя дожидается!
Вот это была настоящая подлянка! Медсестры и медбратья в реанимационном блоке работали парой. Тут и вдвоем работы было выше крыши. Но когда один из этих двоих новенький, это даже хуже, чем работать в одиночку. Потому как новенький ничего не знает, не умеет, не понимает, что происходит с больными, и так далее. Обучая новенького, чтобы он все запомнил, сам начинаешь работать вдвое, если не втрое медленнее, новенький не знает, где лежат инструменты, лекарства, поэтому в экстренной ситуации мало того что от него толку ноль, так он еще и путается под ногами. За новеньким нужно смотреть в оба, чтобы он чего-нибудь не учудил, по десять раз перепроверять, что он колет, в какой дозе, и все в таком роде.
Вот почему большинство медсестер из старослужащих первое время заставляет новеньких лишь бесконечно драить пол. Мне это всегда казалось неразумным, когда-то учить ведь все равно придется.
Студент рассматривает работу как приработок к стипендии, как халтуру. Студент ненадежен, он в любой момент может уволиться. Студент высокомерен, считая себя почти доктором. Студент утром удирает на учебу, оставляя тебя одного сдавать смену и отчитываться на конференции.
Но студент парень — это вообще зло в чистом виде. Он и пол толком мыть никогда не научится. Мне это было известно лучше всех: я и сам являлся таковым.
В сестринской на диване сидел крепкий мордатый малый и покуривал. Я уже один принял смену в блоке, справедливо решив, что толку от этого новенького никакого. Он показался мне смутно знакомым, даже не внешне, а каким-то своим обликом. Хотя это мне наверняка почудилось.
— Ты сегодня со мной в паре? — спросил я с порога и, не дожидаясь ответа, скомандовал. — Что сидишь, пошли работать!
Тот живо поднялся и пошел следом за мной.
— Тебя как зовут? Дима? А меня Леша.
Первые сутки
Коридор у нас был длинный, пол в нем выложен мрамором. Это еще к Олимпиаде так постарались.
— Мне сказали, ты студент? — оглянувшись, спросил я. — Где учишься?
— В Первом меде! — гордо ответил тот.
— И я в Первом меде! — сообщил я, чтобы он не очень-то задавался. — А на каком курсе?
— На четвертом!
— Надо же, и я на четвертом!
Наш институт был таким огромным, что можно было учиться с человеком на одном курсе и ни разу с ним не пересечься, особенно если обучаться на разных факультетах или потоках. И опять, как только он заговорил, мне почудилось, будто я когда-то его уже слышал. Теперь, помимо облика, мне показалась знакомой его манера по-особому, немного по-блатному растягивать слова.
— А на каком ты факультете? — продолжал я допытываться, мы уже вошли в блок.
— На втором лечфаке!
— И я на втором лечфаке!
В Первом меде было два лечебных факультета. Первый и второй. Образование они давали одинаковое, но на первый обычно попадали блатные с серьезными связями и иностранцы. На втором блатных тоже хватало, но в целом там люди были попроще. Значит, я учился на одном факультете с этим Димой, но почему-то никогда его прежде не видел.
— А поток какой у тебя?
— «Б»!
Все понятно! Я учился на потоке «Г». Туда загнали всех рабфаковцев, стажников и дембелей. Теперь ясно, почему мы не встречались. Хотя с этого года я как раз перевелся на «Б» — и мы будем с этим Димой учиться вместе. Я это сделал, чтобы занятия по терапии и хирургии проходили в моей же больнице. За столько лет, что я тут работаю, я отлично знал всех наших кафедральных хирургов и большинство терапевтов, а главное — мне совсем неохота было после дежурства тащиться через пол-Москвы в другую больницу. Жаль, что завтра у нас кожные болезни, кафедра эта была на Пироговке. Только как нам вдвоем раньше удрать, ума не приложу.
— Короче так, Дима! Слушай и запоминай! Не запомнишь, ничего страшного, я еще сто раз это повторю! — начал я вводный инструктаж. — Сегодня у тебя первые сутки, после которых ты станешь другим человеком! И не смейся! Сам увидишь.
С новенькими главное не пережать, а то, бывало, придут в оцепенение, тогда от них вовсе никакого толка. Но Дима этот явно не из закомплексованных и зажатых. Крутит башкой с явным любопытством, и это хорошо.
— Смотри! Вот реанимационная палата. Здесь ее называют блоком. У нас три таких блока. Два работают, третий законсервирован на случай катаклизмов, катастроф и гражданской войны. В каждом блоке по шесть коек. И всех больных обычно обозначают не по фамилии, это долго, особенно когда что-то случается экстренное, а по номеру койки, на которой он лежит. Поэтому главное — запомнить, что койки считают по часовой стрелке.
И я быстро их пересчитал для Димы, обводя блок пальцем выставленной вперед руки будто дулом пулемета.
— Вот шкаф с растворами! Вот ящик с лекарствами! Все полки подписаны, гляди. Это я сам подписал в прошлом году, чтобы тут же найти, если что.
Почерк у меня был так себе, но я подписал все большими печатными буквами, поэтому разобрать было легко, где «Антиаритмические», а где «Спазмолитики». Видно было, что Дима оценил мое творчество.
— Вот набор для торакотомии, это если повезут на прямой массаж, но такое случается раз в два года. Главное — набор для интубации. Только обязательно в начале дежурства проверь, горит ли лампочка на клинке ларингоскопа, а то бывает.
Я с большим энтузиазмом открывал ящики, распахивал створки шкафов, вынимал и демонстрировал их разнообразное содержимое, смахивая на торговца в арабской лавке. Дима реагировал, то есть кивал, уважительно хмыкал и восхищенно таращил глаза.
Я и сам помню, как первый раз здесь, на практике, восемь лет назад, все это разглядывал, передо мной тогда просто пещеры Али-Бабы раскрылись.
Все-таки когда-то я его видел. Может, на овощной базе, куда нас пару раз на первом курсе посылали? Или на стройке нового административного корпуса? В такие места обычно все потоки отправляли.
— Над каждой койкой монитор висит, он сердечные сокращения выписывает. А вот здесь, на второй койке, больной на ИВЛ, то есть сам он не дышит, в него аппарат дует. Видишь, аппарат дует шестнадцать раз в минуту, а больной продыхивает в два раза чаще аппарата? Нужно понять, по какой причине он не синхронизируется. Чаще всего достаточно его просто загрузить, например барбитуратами, — и все будет хорошо.
— Ну это-то я немножко знаю, — вдруг произнес Дима.
— Знаешь? — удивился я. — Так ты что, работал в реанимации?
— Нет, не работал! — ответил он. — Я там лежал.
И тут я наконец вспомнил.
 Иллюстрация: Алексей Сухов для ТД
Иллюстрация: Алексей Сухов для ТД
Страшная клятва
Еще до начала учебы, а именно в августе, после вступительных экзаменов, как только моя фамилия обнаружилась в списках, зачисленных на первый курс, я дал себе страшную клятву. Я никогда не позволю больше использовать себя на халяву. Никакой общественной работы, никаких добровольных народных дружин, никакой художественной самодеятельности. Достаточно. Только учеба и работа. Учеба днем, работа ночью.
И надо сказать, что я придерживался своих принципов, правда с некоторыми оговорками. Я мог включаться в общественно полезный труд эпизодически, например, съездить на овощную базу, но когда осенью, перед третьим курсом, всех студентов по традиции решили загнать куда-то под Можайск на картошку, причем на месяц, я понял, что настал повод вспомнить клятву, данную двумя годами раньше.
Я просто забежал в нашу эндоскопию, где Инка Гуськова настрочила на машинке протокол, по которому моя язва хоть и кровила, но оставалась надежда на консервативную терапию. С этим протоколом я отправился в районную поликлинику, там мне выдали студенческую справку и направление на госпитализацию, если я вдруг начну загибаться. Язва у меня и правда была, так что я не особо и симулировал.
И вот в Клинике детских болезней на Пироговке устроили собрание для второго лечфака. Народу набилось — не продохнуть. Шум, смех, все темы разговоров были об одном: как я провел лето. Особенно было что рассказать тем, кто в «Сеченовец» съездил или в «Дружбе» поработал. Главные летние базы Первого меда, что вы хотите. А я хоть и ездил в «Дружбу» пионером и считал это место лучшим на земле, в разговорах этих участия не принимал, уж больно давно все было, да и не хотелось вот так, впопыхах, в суете, рассказывать о святых для меня местах.
Вместо этого я принялся вспоминать, как сто лет назад в этой аудитории на новогоднем концерте выпиливал на соло-гитаре, еще будучи студентом медучилища. У нас тогда ансамбль был неплохой, мы даже из Pink Floyd играли.
Тут на трибуне показался декан Гостищев, все хоть не сразу, но замолчали и стали внимать. Декан рассказывал про предстоящую поездку на картошку, как все это будет выглядеть, в каких условиях предстоит жить и трудиться, про распорядок дня, про график приема пищи, про возможность при необходимости сгонять на день в Москву и прочее.
Я слушал вполуха, уже зная, что меня все это мало касается. С воспоминаний об ансамбле я переключился на события практики по педиатрии все в том же училище. Как я в этой клинике две недели пырял несчастных детей иголками и некоторых из них до сих пор помнил по именам.
Наконец Гостищев закончил, но под занавес все же не забыл сказать, что у кого есть медицинский отвод и прочие серьезные основания не участвовать в битве за урожай, пусть эти люди подойдут прямо сейчас к нему — и он выслушает их доводы.
Когда я спустился со своего верхнего ряда, перед Гостищевым уже успела организоваться небольшая очередь из дезертиров. Я встал за последним, и мы начали потихоньку двигаться. Люди в основном показывали медицинские справки, но некоторые сообщали о разного рода важных событиях, например о пожаре в доме тетки в Орехово-Зуеве или о предстоящей свадьбе брата в Гудермесе.
Гостищев расправлялся со всеми быстро, не прошло и десяти минут, а передо мной были лишь двое. Маленькая суетливая брюнетка и широкоплечий парень, за спиной которого я и пристроился. Брюнетка сообщила, что у нее беременность пятнадцать недель, и показала справку. Гостищев отправил ее в распоряжение деканата разбирать бумажки.
Оставался еще этот парень. И когда Гостищев задал ему стандартные вопрос, типа, а у вас какие проблемы, тот ему и сообщил:
— У меня в 87-м было проникающее ранение сердца. Левое предсердие. Кровопотеря. Я в 71-й больнице с этим лежал. Десять дней в реанимации, три недели в отделении.
Он стоял ко мне затылком, говорил, немного растягивая слова, и я видел только часть его уха. Гостищева я видел хорошо.
— Ну а как ты сейчас себя чувствуешь? — спросил у него Гостищев.
— Да нормально! — пожал плечами парень.
— Голубчик, ну я тебе как хирург скажу, — широко улыбнулся Гостищев. — Если после такого остался жив, то теперь ты вполне здоровый человек, не хуже других. Так что поезжай-ка на картошку как все, а если что, я туда заезжать буду, найдешь меня. Ну давай.
Парень малость растерялся, я это почувствовал по его спине, он и отошел не сразу, еще несколько секунд мялся, за это время я как раз успел подумать, а вдруг у него, не дай бог, аневризма развилась после ранения, так она в два счета порвется, стоит ему мешок картошки поднять. Но Гостищев и правда хирург, доктор наук, ему уж точно виднее.
— А у вас что? — спросил меня Гостищев, когда этот парень отправился на выход.
— А у меня язва обострилась! — с тяжелым вздохом сообщил я и протянул ему справку. — Вот!
Гостищев пробежал ее глазами, кивнул и сказал:
— В распоряжение штаба по трудоустройству!
Именно это мне и было надо.
В штабе ожидаемо пошли мне навстречу, пообещав, что засчитают мою работу в реанимации за труд, полезный обществу, и я на радостях сразу взял двенадцать суточных дежурств.
Экстрасенс
И вот сейчас, спустя год, как только Дима произнес свое: «Я там лежал!», мне сразу стало понятно, кто стоит передо мной.
Тут я решил его немного разыграть. А что, воскресное дежурство, к тому же оно только началось, листы назначений еще не написаны, время на шутки есть, а больные в блоке все без сознания.
— Стоп! — приказал я. — Ни слова больше!
Дима моргнул от неожиданности, но тут же послушно замолчал.
Я сделал серьезное лицо и внимательно начал его разглядывать. С кончиков его коричневых сандалий до маковки зеленого колпака. Затем в обратном направлении. Диме стало неловко под моим взглядом, и он начал переступать с ноги на ногу.
— Не шевелись! — тут же прикрикнул я, и он замер.
Я зашел ему за спину, положил ладонь ему между лопаток и провел к пояснице. Затем повторил это движение, только уже спереди. При этом я хмурился, кривил рот и еще всячески изображал работу мысли.
Затем я перестал его гладить, постоял полминуты и наконец произнес:
— Да! Не врешь! И правда лежал. Причем не с хронью какой-нибудь, а с ургентной ситуацией.
У Димы открылся рот.
— Как это? — прошептал он.
— Что как? — опять нахмурился я. — Напомнить, как в реанимации лежат? Очень просто, на койке, первые сутки на трубе.
— Ну да, — кивнул он в потрясении. — Так все и было!
— А то я без тебя не вижу! — достаточно грубо оборвал его я. — А ну повернись! Надоело вокруг тебя бегать!
Он безропотно повернулся, причем достаточно ловко, наверняка в армии служил, если так команду «Кругом!» выполняет. Я снова медленно повел ладонь от лопаток к пояснице.
— Теперь лицом ко мне!
Он выполнил и это без промедления.
Я провел ладонью от яремной вырезки до пупка.
Закончив, прикрыл глаза, потом резко открыл их, посмотрев ему прямо в зрачки, тяжело выдохнул и произнес:
— Да, не болезнь, острая травма, причем не абдоминальная, в брюхе чисто, а торакальная.
Тут Андрюха Кочетков как раз притащил листы назначений. Пауза эта пришлась весьма кстати и обалдение, в котором находился Дима, лишь усилила.
И конечно, он не давал мне работать, а все только крутился рядом и поминутно спрашивал:
— Не, ну как это? Ты чего, и правда экстрасенс?
Я прервался с капельницами и шприцами, строго на него посмотрел и выговорил:
— Дима, все эти истории про экстрасенсов — сказки для дурачков. Надо не в такую ерунду верить, а быть врачом и клиницистом!
Тут он уже совершенно растерялся. Закончив с назначениями, я решил продолжить свои эксперименты, собственно, меня к этому и призывали. Дима просто сгорал от нетерпения, а я повторил, чтобы он не вздумал обмолвиться и словом, что с ним приключилось, где и когда.
— Ну хорошо! — смилостивился я. — Так и быть! Обычно я это никому не демонстрирую. Кстати, никто здесь из наших про эти мои дела понятия не имеет. Скажешь кому — убью сразу! Не хватало еще, чтобы ко мне очередь выстроилась. Тут и так перекурить бывает некогда!
Дима, не думая ни секунды, согласился.
 Иллюстрация: Алексей Сухов для ТД
Иллюстрация: Алексей Сухов для ТД
Я уже не стал его крутить, как-то стало лень, а просто поставил ладонь ему на грудину и долго думал.
— Какая-то нерезкая картинка, — сообщил я спустя минуту. — Так бывает, когда прилично времени проходит с травмы! Значит — это с тобой приключилось года два назад, а то и три!
Он ведь сам тогда сказал Гостищеву, что ножевое получил в 87-м, значит, как раз три года прошло.
Дима опять открыл рот.
Я снова начал хмуриться, вздыхать, моргать.
— Ага! Вижу гемоперикард, понятно, что из сердца будь здоров ливануло! Края раны ровные, канала нет, поэтому не огнестрел! Тут либо ножевое, либо стекло!
Дима раскрыл варежку на максимум возможного.
— Нет, не стекло! — помотав головой, почти сразу определил я. — Точно ножевое!
Дима прикрыл на мгновение рот и судорожно сглотнул.
— Да! Говорю же! По всему понятно, что времени много прошло! — как бы извиняясь, развел руками я. — Обычно сразу можно увидеть, если ситуация свежая! Ножевое вообще спутать сложно!
Дима заморгал часто-часто.
— Давай-ка подойдем к окну, тут как-то темновато! — предложил я. — А то руками много не увидишь!
Дима послушно проследовал за мной к окну, как ослик за морковкой.
Я развернул его к свету, пощелкал пальцами над его макушкой:
— Посмотри наверх, вот сюда! Так, да, хорошо, только не моргать! Говорю же, не моргай сколько сможешь! Все, теперь моргай! А теперь снова наверх посмотри! Да! Вот так! А сейчас резко посмотри вниз, только головой не шевели, одними глазами!
Дима выполнил эту безумную пляску глазных яблок, чреватую развитием косоглазия.
Я потер ладонью лицо, изображая навалившуюся усталость:
— Ну что я могу сказать. Точно, сердце. Теперь по отделам. Не правые, это понятно. Левые. Не желудочек. Предсердие. Да, левое предсердие. Повезло тебе. Кровищи вылилось, мама дорогая!
— Подожди! Да как же это? Да это же охренеть можно! Нет, это ж чума просто!
Я терпеливо все выслушивал, слегка морщась от досады, мол, да, я знаю своему таланту цену, но зачем уж так шуметь!
— Ладно, хорош тебе! — оборвал его я. — Возьми тонометр в ящике, чем болтать, ходи и давление всем по кругу измеряй!
Пока он этим занимался, я успел выписать на бумажки назначенные анализы для лаборатории и нарезать пластыри на подключички.
Как только Дима закончил с давлением, он, вполне ожидаемо, тут же принялся выпытывать, каким образом я все это определил.
Приняв вид утомленного гения, потерев переносицу, намеренно снисходительным тоном я произнес:
— Слушай, Дим, да все это фигня! На самом деле дифференцировать болезнь от травмы легко. Определить локализацию и характер повреждения нетрудно. Топографию повреждения самого органа, это, конечно, увидеть малость сложнее, но возможно.
Дима, с одной стороны, кивал, как прилежный ученик, а с другой — смотрел на меня с невероятным уважением. Главное сейчас — не заржать. А то все испорчу.
Я поднялся со стула, всем видом выражая решимость:
— Короче говоря, если бы у меня все этим ограничивалось, то и ладно, подумаешь. Но я и еще кой-чего умею.
Дима замер и перестал дышать.
— Ладно, бог с тобой. Могу сейчас на тебе показать! Хотя это такой концентрации требует, я после неделю ничего не смогу, даже температуру определить с расстояния метра. Но еще раз предупреждаю: чтобы никому!
Я усадил Диму, зашел сзади, обхватил его голову руками и замогильным голосом начал:
— Думай только о том, где ты тогда лежал! В какой клинике или больнице. Только об этом! Я сказал — только об этом!!! Не о том, как это у меня получается, а только о том, где ты лежал!!!
Через несколько секунд я отбросил руки и как бы в изнеможении опустился на соседний стул.
— Все, кончай уже мозги морщить!
Немного отдышавшись, я начал:
— Лежал ты три года назад. В Москве лежал, не в области. Не в центре, не на востоке, не на юге. Там все пусто, не вижу тебя. Север? Да нет, не север. Скорее запад. Да, точно, запад! Запад… запад… Ага! Кунцево!
Дима вздрогнул и глубоко задышал.
— Кунцево, ну конечно! Да! 71-я больница, голубушка! Десять дней в реанимации, три недели в отделении!
И все. Такого невероятного, такого искреннего, неподдельного восхищения я не испытывал в свой адрес никогда. Да какое там! Даже на танцах в пионерском лагере, где я играл на соло-гитаре, не доставалось и сотой доли того восторга, который читался сейчас во взгляде Димы. А я всего-то запомнил несколько фраз, что он тогда сказал Гостищеву. Но вся мировая история полна примеров, как лишь несколько слов могут изменить ее ход, нужно только произнести их к месту и времени.
Никакого кайфа
Когда в блок пришел Кочетков писать дневники, я отпросился у него покурить — и мы с Димой отправились в гараж.
Но не успели мы сесть на лавочку, как он начал:
— Леха! Ну как это у тебя получается? Я про такое только у Стивена Кинга читал! Да и то, там чепуховина просто по сравнению с тобой! Это что, ясновидение? Или что-то другое?
— Слушай, и сам не знаю! — признался я. — Как это правильно назвать. Мне давно, еще в раннем детстве, были видны вещи в закрытых шкафах, я всегда до копейки представлял, сколько денег у моих родственников в кошельках, знал, куда прячут новогодние подарки, ну и все такое. Домашние были уверены, что я их дурачу, да мне и самому не очень хотелось их посвящать в подробности. Единственное применение моим способностям они находили в поисках сущей ерунды, типа потерянных серебряных вилок из сервиза.
Дима потрясенно качал головой, даже про сигарету в своей руке забыл. Поэтому я, вдохновившись, продолжал:
— Когда позже я стал видеть людей насквозь, а со временем и все события, что с ними случались в прошлом, мне и самому стало не по себе. Но постепенно я привык, как привыкают ко всему. Вот.
— Не, ну это же охренеть можно! Это ж кайф так жить! — воскликнул Дима. — Такие возможности открываются!
— Да? Ты так считаешь? Что это кайф? — горько усмехнулся я. — Вот ты когда в метро сидишь напротив красивой девушки, о чем ты думаешь, когда на нее смотришь?
— Ну так это, — замялся Дима. — Думаю: вот телка сидит красивая, и все такое.
— Ну да, именно! — согласился я. — Сидишь и думаешь, как бы с ней сейчас все такое. А я сразу вижу, что у нее, к примеру, хламидии, хронический гайморит, камни в желчном пузыре и что месяц назад она аборт сделала. Ну и как? Кайф так жить, по-твоему?
— Да-а-а! Дела! — посочувствовал мне Дима. — Я как-то о таком не подумал!
— С другой стороны, — стал я рассказывать про безусловно положительные стороны своего дара, — очень хорошо бывает в азартные игры играть, когда все карты, все расклады видишь. Но быстро надоедает, не игра получается, а поддавки. Или билеты экзаменационные. Но там, когда насквозь смотришь, все ведь наоборот написано, поэтому не всегда успеваешь сообразить. Кстати, бывают дни, когда я ничего не вижу. Сам не знаю почему. Может быть, мозг отдыхает или ацетилхолин в синапс не в том количестве поступает.
Я сидел с серьезной рожей и врал напропалую, быстро войдя во вкус. Вообще, когда верят каждому твоему слову, а любую чушь встречают с экстатическим воодушевлением, попробуй тут остановись.
— Я ж еще и по радужке диагностику освоил, и тибетской медицине у монаха одного учился, он личным врачом китайского посла тут, в Москве, работал, теперь только по запаху сотню болезней определить могу, а недавно по голосу научился диагноз ставить, могу даже по телефону. Но это если на линии помех нету. А то, когда треск в трубке, тут сам понимаешь, коарктацию аорты от митрального стеноза не отличить.
Неся эту ахинею, я все ждал, ну когда же он меня разоблачит! Но не тут-то было.
— Леха, это же какие бабки на всем этом можно делать! — Дима оказался человеком, не лишенным прагматизма. — Чего ты здесь забыл, за гроши надрываться! Да и зачем тебе этот наш институт сдался!
— Я тебе еще вначале сказал, — строго напомнил я. — Что прежде всего нужно быть врачом и клиницистом! Вот смотри, привозят больного, к примеру — падение с высоты. И я вижу, что у него в животе полтора литра крови, вижу, что селезенка в хлам порвалась. И что? Все равно пока ему брюхо не вскроют, от моих способностей толку никакого. А то, что у него кровотечение, и без меня через пять минут станет понятно, с помощью примитивного лапароцентеза. А если опухоль? Тут и про виды опухолей все надо знать, и про химиотерапию, и про лучевую. Я уж молчу про гистологию, биохимию, патофизиологию и прочее. Короче говоря, тут нужно учиться и учиться, в том числе и руками работать, понял?
— Леха! Возьми в ученики! — преданно глядя в глаза, выдохнул Дима. — Не пожалеешь! Мы контору свою откроем, кооператив, деньги зарабатывать начнем!
— Контору мы еще успеем! — заверил его я. — Но сначала нужно институт окончить! А иначе к нам приличные люди относиться станут как к жуликам, как к Чумаку какому-нибудь. Мы же этого не хотим, правильно? А деньги что? Деньги никуда не денутся, можешь мне поверить! Как только статус получим докторский, так и начнем деньги лопатой грести!
И после этого что бы я ни сказал, что бы ни сделал, все производило фурор, на все Дима реагировал с невероятным энтузиазмом.
Я все-таки, помимо того что врал как сивый мерин, не забывал его натаскивать. Показывал, как заряжать капельницу, как делать инъекции, как кормить в зонд, как перестилать. По ходу дела он продолжал восхищаться уже моими реанимационными навыками, особенно тем, что я помню все дозировки и процентовки лекарств, эх, знал бы он, что в училище я не был аттестован по фармакологии. А уж когда я вогнал больному на первой койке подключичный катетер, Дима и вовсе испытал катарсис.
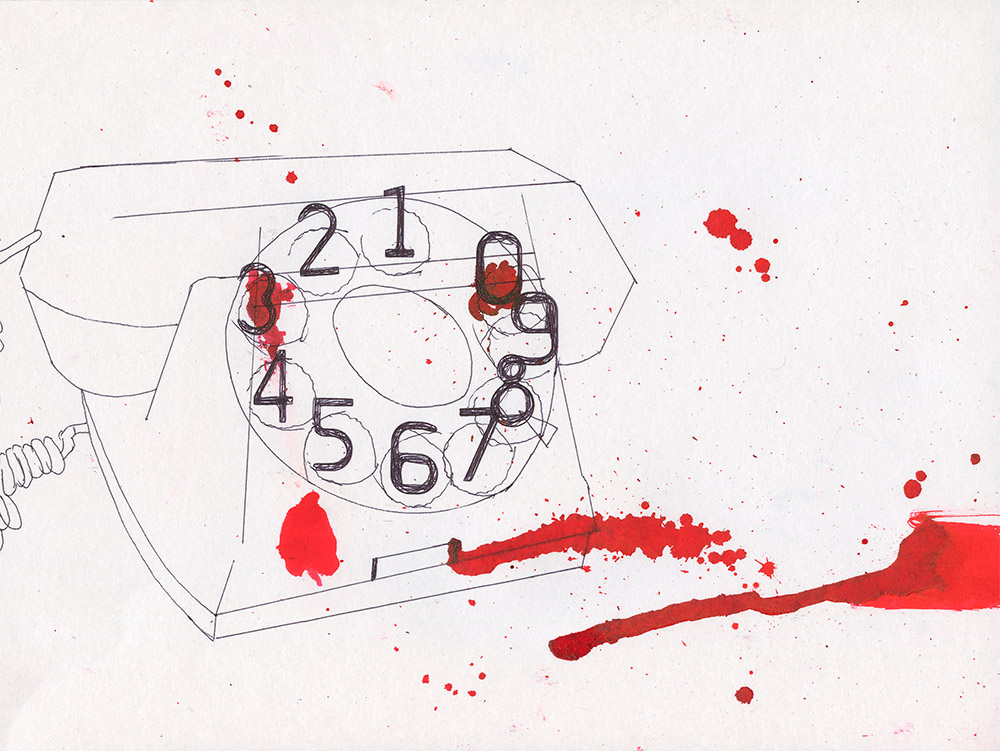 Иллюстрация: Алексей Сухов для ТД
Иллюстрация: Алексей Сухов для ТД
История Димы
Во время очередного перекура он мне поведал, что же с ним тогда произошло, летом 87-го. Я ведь не случайно уведомил его перед последним сеансом, что после мне потребуется долгий период восстановления, поэтому Дима, не полагаясь на мое ясновидение, рассказал сам.
Его замели в армию после первого курса. Так как Дима был боксером, чемпионом Москвы, кандидатом в мастера, он попал в спортроту, где выполнил норматив, став мастером спорта во втором среднем весе.
И вот уже после демобилизации сидел он дома, когда в дверь ему позвонил пацан-сосед:
— Дим, слушай! Тут какие-то козлы ко мне ввалились! Я их первый раз вижу. Про какой-то долг говорят, а я без понятия! Выручай!
Дима ухмыльнулся, убрал пацана с дороги и отправился в квартиру напротив. Ударом левой он мог проломить стену.
Войдя, он успел лишь сказать:
— Ну что тут за дела?
И получил ножом в сердце. Он даже рассмотреть никого толком не успел. Шатаясь, дошел до своих дверей и отключился.
В это самое время мать Димы возвращалась с работы. Она была доктором, точнее анестезиологом, и работала заведующей отделением в большой московской больнице. Она зашла в подъезд, возможно предвкушая ужин и фильм по телевизору. Когда двери лифта открылись, оказалось, что вся площадка залита свежей дымящейся кровью. Повернув голову, она обнаружила, что дверь в их квартиру приоткрыта и заляпана кровавыми отпечатками ладоней. От ужаса у нее моментально пересохло во рту и застучало в голове. На трясущихся ногах она подошла к двери и заглянула.
На полу в прихожей в луже крови лежал ее сын и агонировал. И тут она мгновенно собралась и сделала невозможное. Сорвав телефон с полки на пол, одной рукой набрала номер скорой 03, второй затампонировала рану носовым платком. А через несколько секунд принялась дышать рот в рот и в паузах кричать в трубку, лежащую рядом:
— Проникающее ранение грудной клетки с ранением сердца! Присылайте бригаду реанимации! Предупредите 71-ю больницу, пусть разворачивают операционную для торакотомии, кровь вторая плюс!
Они жили в Кунцеве, и до 71-й там было рукой подать. Реанимобиль домчался спустя какие-то минуты, и Диму успели взять на стол еще на работающем сердце. В больнице ему пришлось провести ровно месяц. Десять дней в реанимации, три недели в отделении.
Услышав эту историю, я тут же пожалел о своем дурацком розыгрыше. Особенно когда представил себе в красках, что же перенесла его мать. Но признаться прямо сейчас, когда он смотрит на меня, будто школьница на кинозвезду, тоже было невозможно.
Признание
А Дима продолжал петь мне дифирамбы по поводу каждого моего жеста и действия, тем более к вечеру один за другим начали поступать больные и там было чем себя проявить. А еще когда кто-нибудь из нашей бригады вел себя со мной, по мнению Димы, фамильярно, он тут же вскидывался и реагировал весьма возмущенно:
— Какой он вам Лешка? Вы еще всем потом рассказывать будете, что с ним работали!
На Диму смотрели странно, пожимая плечами. Мол, взяли на работу мальчика, а он сумасшедшим оказался.
Конечно, можно было тянуть так еще долго и у меня бы хватило фантазии еще месяц-другой изображать из себя графа Калиостро. Но дежурство выдалось мало того что бессонное, так даже и все перекуры закончились. Первую ночь осени граждане решили отметить ударным травматизмом. Поэтому наутро я вымотался до такой степени, что продолжать все это было уже неохота. Зато я договорился с сестрами из соседнего блока — и нам разрешили вдвоем сбежать в институт до утренней пятиминутки.
И вот когда мы ехали от Зубовской в Кожную клинику на троллейбусе, а Дима продолжал смотреть на меня как на чудо природы, не прекращая строить планы по нашему совместному обогащению, предлагая разнообразные варианты использования моих сверхспособностей, я и решил признаться. В тот момент, когда троллейбус проезжал мимо памятника Пирогову, я не выдержал и ткнул пальцем в окно. Там на противоположной стороне улицы проплывало здание темно-красного кирпича.
— Узнаешь место?
— Ну да! — немного растерявшись, сказал Дима. — Детская клиника, а что?
— Ровно год назад я здесь стоял за тобой в очереди к Гостищеву, когда ты ему рассказывал про свое ранение в 87-м. Я не хотел тебя разыгрывать, прости, но больно уж случай подходящий представился.
Он все никак не мог поверить. Даже когда я ему повторил слово в слово, что он сказал тогда Гостищеву. И когда повторил, что тот ему ответил.
Знаете, а он на меня в общем-то и не обиделся. Просто очень расстроился, как расстраиваются дети, когда им сообщают, что никакого Деда Мороза не существует. Всем хочется верить в сказки.
И все-таки главное для студента — стать врачом и клиницистом. И я знаю, что у Димы это получилось.
А людей я больше не разыгрываю. Ну почти.
Москва, январь 2021
Еще больше важных новостей и хороших текстов от нас и наших коллег — в телеграм-канале «Таких дел». Подписывайтесь!
