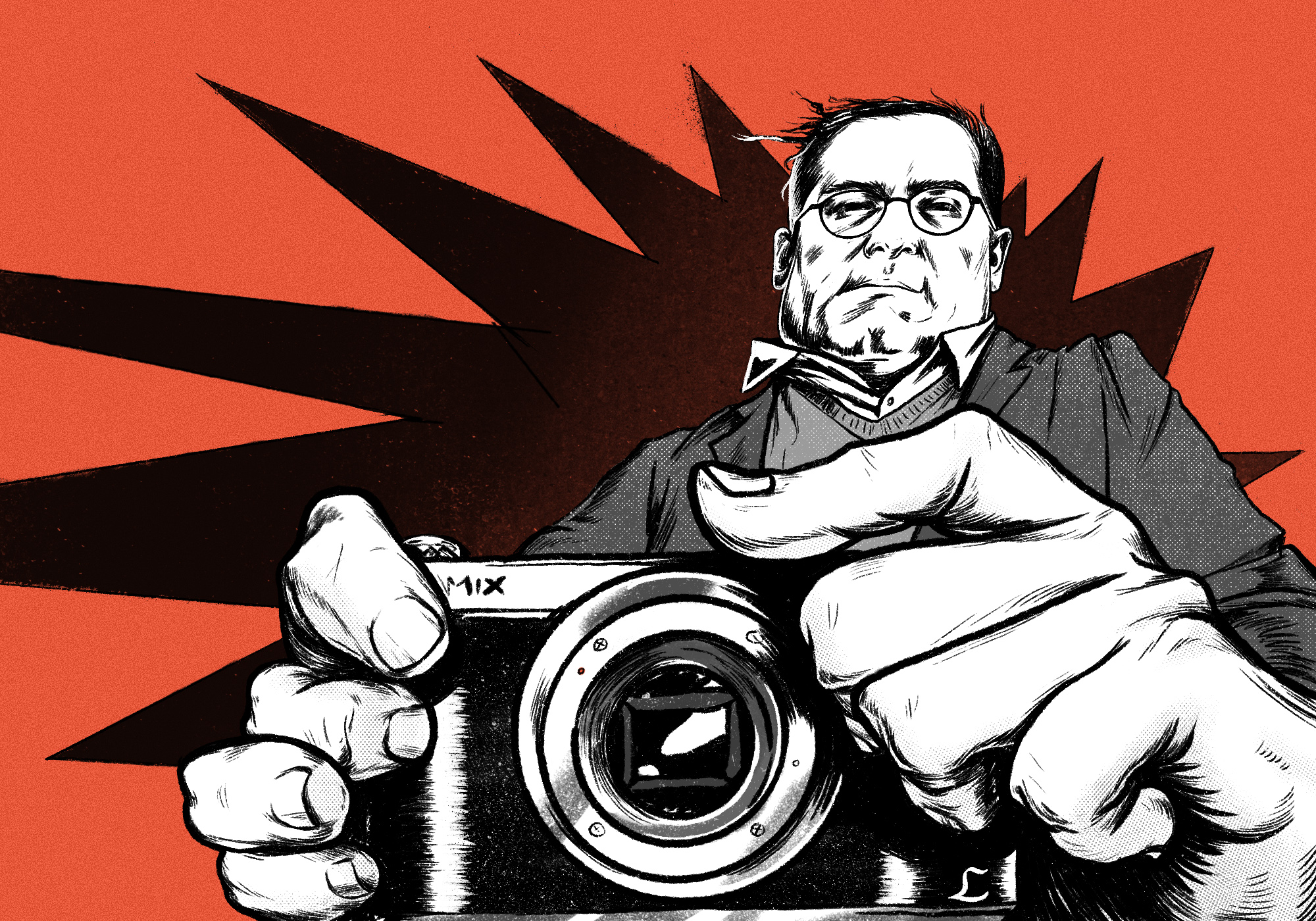Легендарный военный фотограф, глава агентства Magnum Томас Дворжак — о работе в Грозном, современной фотографии и эстетике изображения
Томас Дворжак — ярчайшая звезда военной фотографии девяностых и двухтысячных. Он работал в маленьком региональном агентстве, стал номинантом в легендарное объединение Magnum в 28 лет, его равноправным членом — в 32, а уже в 45 возглавил Magnum на три последующих года.
Стремясь убежать от скучной жизни маленького городка со сложным названием в баварском лесу, Томас старался найти себя как фотограф в конфликтах в Европе, но в 1991 году приехал в Москву и понял, что жизнь в позднем СССР ему подходит больше.

Путешествуя по стране, молодой авантюрист влюбляется в Кавказ и остается здесь до 1998 года. Работа во время кавказских войн прославит его как поистине антивоенного документалиста, а фотографии Дворжака познакомят весь мир с удивительной и противоречивой культурой Кавказа, где жестокость и гостеприимство неотделимы друг от друга.
«Такие дела» поговорили с последним романтиком военной фотографии, который много шутит, но предпочитает молчать, делает фотокнигу на основе чужих инстаграм-кадров, но свой ведет строго под замком, снимает дистанционно и смеется над теми, кто делает так же.
С дистанционной съемки мы и начнем.
— Мы с вами встречаемся в Zoom. У нас долгое время было очень модно не просто общаться, а даже фотографировать дистанционно, по видеосвязи.
— Ох, надеюсь, эта мода скоро пройдет. Я сам последний год снимал через Zoom. Это были общественные события в других странах: спортивные, религиозные тусовки, большие скопления людей. Не так красиво и совсем не эстетично, конечно, но что поделаешь.
Делал я и снэпшоты с экрана. В нормальное время [не во время пандемии] вряд ли мне бы пришла в голову идея снимать людей, сидящих за компьютером (смеется).

В России дистанционная съемка была особенно развита, у вас сформировалась целая школа! В тех материалах, что я видел из России, фотограф использовал Zoom, чтоб организовать съемку: договаривался, кто куда встанет и прочее, а потом передавал телефон кому-то из близких [чтоб тот направлял камеру телефона]. Не очень понимаю, почему бы [тогда] просто не написать, что фотограф хочет увидеть, а герои [потом] сами бы себя фотографировали (смеется)!
— Получается, тот, кто держит телефон, становится соавтором съемки.
— Конечно, даже автором. Я, когда смотрел [съемки], правда не понимал, зачем там еще нужен третий человек. Хорошо, что все это уже стало ненужным [ограничения снимаются, прививочная кампания в разгаре] и фотографы могут работать полноценно.
— Значит, тот, кто имеет доступ к камерам наблюдения, станет лучшим фотографом!
— Да, есть пример. Убийство Джорджа Флойда имело большую визуальную составляющую, но лучшая картинка была на BodyCam полицейских и девушки, которая снимала видео на телефон.

Затем сотни, тысячи фоторепортеров начинают снимать последующие за убийством протесты, но это уже второстепенно. Главное сняли камеры полицейских.
При этом я слышал много [жалоб] от коллег, что протестующие BLM были против съемки своих акций. Они говорили: «Это может нам навредить». Я все понимаю, но ведь вы хотите, чтоб о вашей борьбе узнало как можно больше людей!
Эта тенденция есть не только в США и не только на протестах. Раньше я ходил везде с фотоаппаратом, снимал на всех вечеринках. Фотографировал, и незнакомцы меня даже благодарили. [Мне] немного неудобно было — за что спасибо-то?
Теперь, после карантина, я вышел на улицу, а люди стали куда агрессивнее — многие уже не хотят, чтоб их снимали. Причем на камеру нельзя, а на телефон, который порой лучше камеры, можно! Хотя бывают и обратные ситуации, когда просят снять «солидно», не на телефон. Вот мы и выбираем инструмент по отношению к нему со стороны людей.
— Сейчас все строится на эстетике изображения, на его визуальной подаче?
— Конечно, мне приятно, когда люди узнают мою фотографию. Но, на самом деле, я считаю, что это неправильно. Я хочу, чтоб люди говорили не «о, я узнал тебя в этой фотографии», а о том, что на фотографии изображено, а потом уже и имя мое прочли.

Думаю, это началось с 11 сентября. С последующих войн поступали одни и те же фотографии. Ирак 2003 и 2006 годов — это же одно и то же! Единственное, немного менялась форма солдат. Вот по деталям формы и определяли, какого года фотография, потому что на них всегда было одно и то же.
Все стали размышлять: а чем мы можем отличиться? Денег, чтобы углубиться в макроисторию, у изданий не хватало, вот и углубились в эстетику.
— Как вы работали тогда?
— Мне никто не говорил: «Придумай, как выделиться», мне всегда говорили: «Сними хорошо». Думаю, это вот одна из причин, что фотография стала более эгоцентричной. Это как в фигурном катании, там же есть обязательная программа и творческая. Раньше мы выигрывали на обязательной, а теперь другие выигрывают на творческой!
Раньше у меня заказ от редакции звучал так: «Поезжай в Ирак!» Никакой конкретики! Я не знал заранее, как будут обстоять дела на месте. Я приезжал и разбирался: так, патруль — это куда мобильнее, чем чекпойнт, и просился к ним. Конечно, я подписывал все эти бумажки, embedded, [прикомандированным журналистом] я был встроен в армию, и это даже без цензуры означало, что я ограничен в передвижениях.
В Чечне иностранцы в основном работали со стороны чеченцев, а не армии, потому что это давало нам возможность передвигаться. Если ты приписан к армии, ты передвигаешься только с ней. Именно поэтому в Ираке я цинично выбрал медицинскую службу [книга M.A.S.H. Iraq]. Я не особо хотел ее снимать, но она была более мобильна и выдвигалась туда, где были раненые. [Это лучше, чем] сидеть в одной группе войск, охранять какой-то мост и ждать, когда у нас что-то произойдет, завидуя соседней группировке войск.

Очень смешно было наблюдать за конфликтом на Украине! «Антирусский» Запад очень скромно снимает в украинской армии, зато в Донецке так клево! Это же почти война старой школы, такого больше не бывает. Мне тоже в Югославии были больше интересны сербы, но они же не пустили к себе, зато албанцы — пожалуйста! Я ни за тех, ни за других, конечно же, я делаю фотографию.
Самое смешное, что я ничего не знаю об Ираке! У меня даже нет чувства, что я там был, тогда было очень сложно работать снаружи армии, как Юрий Козырев например. Элементарно — это было очень опасно. Зато я многое узнал об Америке, хотя никогда там не жил, об ее культуре — все через солдат.
— Работать в команде с пишущим сложнее или проще?
— Для меня было огромным удовольствием работать с хорошими пишущими напарниками! Конечно, иногда приходится бывать на каких-то скучных интервью, но это издержки — в целом, конечно, вдвоем интереснее.
Если говорить по-простому, вот работа фотографа: встать в пять утра, чтоб был правильный свет, идти на какие-то руины, люди ходят туда-сюда. Все красивенько, конечно, но ничему тебя лично не учит. Твой напарник — это дополнительное мышление, другой взгляд, другие вопросы героям. Правильный пишущий — знаток региона, кладезь контактов и так далее. Кроме того, одному на конфликтах всегда опаснее.
— Как вы снимали значимую для вашей карьеры книгу Kavkas?
— Во время падения Грозного я был фиксером-переводчиком — это еще хуже, чем путешествовать с пишущим (смеется). Я на Кавказе снимал десять лет и работал по-разному. И один, и как фиксер, и с пишущими — во многом им всем благодарен. Конечно, сейчас это звучит странно, но мы даже садились в одну машину втроем-вчетвером (и все фотографы!) и ехали на событие. Тогда мы рассуждали: событие-то одно, почему мы не можем экономить на машине? Сейчас требуется иметь свой взгляд, свою макроисторию, больше индивидуальности. И слава Богу! Но мы ездили на одной машине — я и мой друг из Newsweek, — и это не мешало нам делать совсем разные фотографии.

Была соревновательность — кто и где снял тот или иной момент лучше. Но это не было Авторством с большой буквы, индивидуальности было меньше. Сейчас наступила другая эпоха, эпоха большого авторства — уже нельзя просто пойти и красиво снять событие, этого недостаточно, надо снять уникально [с авторским почерком].
Я всегда считал, что это немного странно: причем здесь автор? Я должен пойти, кого-то найти, поговорить, сфотографировать. И вся тема держится на истории, которую я расскажу, на людях, о которых я расскажу. При чем здесь я и моя личность?
— Чем вы занимались до фотографии?
— Ничем особо. Я рос в маленьком городе в ФРГ [Bad Kötzting]. Мои сверстники все мечтали окончить университет, открыть магазин или стать адвокатами. Многие хотели райской жизни, стать художниками и дизайнерами. Я хотел найти легальный способ удрать оттуда. Не было никакой идеологии: показать людям мир, внести вклад в фотографию — чего-то такого. Просто хотелось уехать, а фотография казалась удобным поводом.
В Западной Германии было ужасно скучно, ничего не происходило, а война была самым большим табу. Во времена холодной войны никто и слышать не хотел о войне. Стагнация и тихий ужас в ожидании еще одной войны были тогда не только в СССР, но и у нас.
Мой внутренний провокатор требовал выхода из уютного западного мира. К тому же я отчетливо помнил новости из Ливана, и мне ужасно хотелось в Бейрут, это была идея фикс. В то время играть в профессионализм было куда сложнее и дороже, чем сейчас. Не было ни компьютеров, ни интернета. Не было контактов. Поехать в Сараево на одну неделю и спать у кого-то на полу — это было сложное в продюсировании мероприятие. А кому потом отдать все эти фотографии, я не знал.
Мне, конечно, повезло: в школе, когда я был совсем ребенком, меня отправили учится во Францию по обмену на полгода. Я научился читать на французском и читал много французских журналов. Там я познакомился с французской школой фотожурналистики, которая сильно отличалась от немецкой. Я узнал, что можно не учиться на академического фотографа и не работать в штате пяти крупнейших газет Германии, а идти снимать что-то интересное. И, если ты сделаешь это хорошо, можно продать это в агентства.
 Парад казаков. Краснодар, Россия. 2013 год. Из серии Beyond SochiФото: Thomas Dworzak / Magnum Photos / East News
Парад казаков. Краснодар, Россия. 2013 год. Из серии Beyond SochiФото: Thomas Dworzak / Magnum Photos / East News
Я приехал в Россию в 1992-м, жил в московской коммуналке и знакомился с иностранными журналистами, которые там были. Мне смешно сейчас вспоминать, как же плохо я ел! Чтобы питаться, я ходил каждое утро в столовую, общался с соседями. Аккредитовался при Министерстве иностранных дел (МИД), получил соответствующую карточку. Она давала кучу привилегий — по ней я платил, например, за гостиницу обычную стоимость. А если гостиница не принимала карту, то просили платить огромную стоимость, специальную для иностранцев, 140 долларов за ночь в Майкопе. Билет до Владивостока, к слову, стоил 14 долларов!
Сдавая квартиру в Германии, я мог худо-бедно жить в России и даже путешествовать. Приезжая куда-то, я сам шел в горадминистрацию, представлялся, показывал свою аккредитацию МИДа, хотя и не должен был. Тогда они переставали быть подозрительными, ведь я сам пришел. Другое дело — на Кавказе. Там я всегда работал напрямую, я не чувствовал враждебности. Сейчас Кавказ не такой, я чувствую себя от местных дальше, чем тогда.
В девяностых моя сила была в спонтанности. Я просто ходил по улицам, передвигался на транспорте. Не делал ресерч, просто знакомился с людьми. Во время Олимпиады приезжал снимать для NatGeo [позже вышла книга Beyond Sochi], было намного сложнее. Я не думаю, что дело только в политике и отношениях между нашими странами, просто Россия и ее регионы стали более развитыми. В Германии нельзя просто сесть в автобус и разговориться с пассажирами — люди закрытые. Но и в середине двухтысячных люди не верили, что я из Германии, говорили: «Ты же грузин!» — это немного помогало.
— Ну да, у вас кавказский акцент русского языка.
— Там практику языка и получил, по большому счету. Я по телефону вообще ничего не могу решить. В двухтысячных, когда искал квартиру в Москве, был ужас какой-то! Я звонил, говорил, что хочу снять квартиру, — все бросали трубку сразу!
— Вы один из немногих фотографов-европейцев, который сформировался как профессионал в совершенно иной культуре — на Кавказе. Это как-то повлияло на вас как фотографа в дальнейшем?
— Нет, у меня нет фотографической культуры. Я учился у тех, кого встречал на пути, развивал свою интуицию. Это было совершенно по-детски, я видел очень мало фотографий в своей жизни, тогда не было самопрезентаций, соцсетей никаких. Из книг в Тбилиси у меня была книга Марка Рибу, и у кого-то я листал книгу Джеймса Нахтвея. Все!
Я приехал в Абхазию, встретил там несколько иностранных фотографов, учился у них, наблюдал, впитывал. Потом они уехали, а я понял, что надо остаться и занять свое место для съемки, это и дало результат.
Помню, как учился кадрировать: высматривал линию, в виде проволоки например, от нее строил кадрирование. Учился по наитию. Мне понадобилось пять-семь лет, чтоб более-менее хорошо снимать на черно-белую пленку, потом учился снимать на цветную и до сих пор далек от совершенства.
Сейчас я смотрю на 21-летнего парня, у которого в портфолио уже все хорошо! Да, у него не было этого тяжелого опыта, но и на *** ему этот опыт! Он смотрит на чужую фотографию и учится!
— С пленкой, наверно, туго было?
— Ох, как было сложно с пленками. Почти весь мой бюджет уходил на них. Каждый раз при нажатии на кнопку из кармана вылетало 50 центов. Но не нажимать было невозможно и под конец дня всегда было безумно жаль каждый сделанный дубль. Позже разжился деньгами и заказал через кого-то в Америке сразу 300 метров кинопленки А2.
 Мужчина несет цветы в сумке с цветами. Сочи. 2013 год. Из серии Beyond SochiФото: Thomas Dworzak / Magnum Photos / East News
Мужчина несет цветы в сумке с цветами. Сочи. 2013 год. Из серии Beyond SochiФото: Thomas Dworzak / Magnum Photos / East News
Каждый вечер я приходил в квартиру, где в углу стояло ведро, и туда кидал отснятые катушки. Я не умел проявлять, лаборатории домашней не было.
Пленка была плохая, очень контрастная, как выяснилось. Зато я быстро научился процедуре растаможки!
— Контрастные снимки — это же и есть ваш стиль!
— От бедности! Шучу. Наверное, я хотел этого драматизма в контрасте. Не могу сказать точно — я не видел свои фотографии много лет после съемок.
— Кому продавали снимки?
— Я мог хоть сколько ездить по России, но с моим бюджетом за сданную в Германии квартиру выехать в Европу было очень сложно! Я не мог обивать пороги агентств, поэтому придумал такую штуку. Где-то в 1995 году я зашел в посольство Франции в Тбилиси, взял там «Желтые страницы» и выписал все адреса представленных агентств. Написал письма где-то в 40 агентств! Написал, что я свободный фотограф, нахожусь в Тбилиси, бла-бла-бла, хочу с вами сотрудничать.
Через три месяца мне ответили лишь два фотоагентства. Первое — Magnum. От него пришел вежливый отказ, в письме писали: простите, но мы работаем лишь с известными авторами. Вторым было агентство «Восток-пресс» — очень маленькое, но хорошее агентство, которое очень плохо продавало фотографии. Они взяли меня в свою семью! И я послал всю эту свою корзину, они проявили, напечатали. Несколько лет работал с ними, ничего особо не продали, но это был мой первый контракт!
— А первые фотографии из России где-то публиковались?
— Нет, конечно, они того не стоили. Митинги какие-то, люди… Не, там ерунда.
— Сейчас, если ты работаешь на иностранное издание, даже частное, значит ты разделяешь симпатии к правительству страны, из которого оно.
— Так и раньше было. У меня всегда было преимущество: я немец с чешской фамилией, а агентство французское. Если немцы какую-то ***** делают, я становлюсь французом.
— Как быть фотографам и журналистам в странах, где нет свободы журналистики?
— Не знаю. У нас не ограничивают свободу политически, но у западных изданий нет средств, что тоже приводит к ограничениям. И зачем-то они отправляют кучу фотографов снимать беженцев в Кале. Зачем так много? Раздайте эти деньги на персональные проекты лучше.
С [протестными] митингами то же самое. Ну сколько можно это снимать? Надо искать истории.
— Как переживается диссонанс между работой молчаливым наблюдателем и представителем агентства, раздающим интервью?
— Меня вряд ли можно назвать менеджером. Мои три года президентства в Magnum закончились, но вообще каждый из нас занимается тем, что представляет агентство. У нас 50 членов и 50 мнений, каждое абсолютно индивидуально. Мой долг был услышать каждое из этих мнений, в том числе CEO, и создать между нами всеми баланс. Внутренней работы было много, но такова специфика агентства — каждый, если будет выбран, может этой работой заниматься.

Мне не стыдно за то, что я говорю и как, но в душе я мыслю как фотограф. А фотографу в большинстве случаев надо молчать (смеется).
Я выбрал фотографию, потому что я чуть потерян между языками, культурами — не умею писать то, что нужно писать, не умею быть киношником, например. Фотография куда больше мне подходит, это международная форма языка.
— Вы использовали в книгах M.A.S.H. Iraq и Kavkas цитаты [соответственно из сериала 1972 года M*A*S*H и произведений русской классической литературы].
— Да, не хватает своих слов, приходится брать слова других авторов (смеется). Я очень люблю взаимоотношения фотографии и текста, но мне совершенно неинтересно то, что я могу сказать своими словами. Я беру у других цитаты и использую их. Думаю, буду снова работать в таком формате.
— Мы уже говорили о том, что фотография стала более эгоцентричной, в ней становится больше самого автора. Старая школа времен Нахтвея, Морриса, Дворжака канет в Лету?
— Если мир уходит от определенного вида фотографии, то не надо защищать фотографа как исчезающее животное. И, возможно, эти изменения в мире заставят нас немного думать — это хорошо! Мир не настолько прямой.
«Рейтер» и AFP очень хорошо и качественно снимают все, что нужно, прямо, по факту, там нет эгоцентричности, может быть, [для них] лишней. А мы, те, кто попал чуть-чуть в более узкую дырку, мы чуть более авторские, художественные, чуть больше нацелены на истории. Я могу пойти на какой-нибудь митинг прямо сейчас, но если это не станет штрихом к какой-то чуть большей истории, то мне будет жалко времени и денег.
Я сейчас смотрю много документального кино и наблюдаю за историями, которым люди уделяют два, три, четыре года. Это интересно, мне нравится концептуальность документального кино. И документальное кино снимается примерно так же, как и снималось полвека назад. А фотография изменилась за это время уже несколько раз, потому что фотографы постоянно хотят как-то отличаться друг от друга.

Наш «люкс» был в том, что нас отправляли на другой конец континента, не имея конкретной задумки. Я не могу представить, что придумал бы M.A.S.H. дома. Ну откуда я мог знать, что так зарифмуются сериал и действительность?
Я в прошлом году был в Судане на заказе «Врачей без границ». Так, беженцы из Тигры поедут в Судан — все, этого достаточно. Но они тысячу раз меня спросили: а как ты снимешь вот это, а какой концепт? Я не знаю! Я не видел их ни разу! Дайте мне чуть-чуть времени, я разберусь. Все двухтысячные я прожил на двух фразах: «Я фотограф» и «Я снимаю в Ираке/Афганистане». Все! В этом красота фотографии [в спонтанности]. Тысяча пятьсот долларов — все! И иди куда хочешь, делай что хочешь.
А сейчас питчат истории: «Я отправлюсь в страну и покажу разницу между человеком, оружием и пространством в фотографии, бла-бла-бла». В двухтысячных было такое ругательство — «грантовый фотограф», это вот про такие питчи и такие вот подходы. Гранты предполагают, что ты уже знаешь, в каком ключе будешь снимать. Такое всегда было, «югославское поколение» романтизировало Вьетнам, мы романтизировали Балканы.
Я никогда не чувствовал, что работаю. И поэтому не испытываю чувства обиды на профессию за то, что она меняется. Конечно, то, что мир становится более корпоративным, — это *****. Но можно найти выход. Например, работать, хоть на круизном лайнере, и снимать себе тихонько свою историю.
У нас в городе фотографом называли человека, который снимал все школы в округе, — не знаю, есть ли такие сейчас. У нас же есть общественный долг и нет ничего, кроме общественного долга.
— Вы испытывали посттравматический синдром?
— Все время спрашивают, а я не знаю. Не хочу принижать эту проблему, но не знаю. Я, когда возвращался на Запад, боялся, что потеряю связь с людьми, потому что их ежедневные бытовые проблемы мне не казались важными. Ну и что, что закрыли наш любимый ресторан? Ведь позавчера Кабул падал, бомбили кого-то.

Раньше мы не говорили об этом, я рад, что все изменилось и люди более открыты, больше общаются и озвучивают эти проблемы.
— Вы ведете социальные сети?
— Инстаграм закрытый, специально для родственников и друзей. Есть аккаунты в фейсбуке, это в Magnum открыли — я не хочу их вести.
Я сделал серию из скриншотов из инстаграма, под двадцать разных тем, и это было очень интересно! Это простые люди, я получаю к ним доступ совершенно просто так! Я, может, даже не хочу получать этот доступ в чужую жизнь, меня иногда смущает, что я знаю о людях так много. Но иногда эти фотографии очень красивые! Это потрясающе. Кроме еще одного селфи и еще одной еды, там много интересного! Иногда мне становится даже страшно от этого — там есть много очень красивых фотографий, которые я мог бы снять лишь в своих самых смелых мечтах!
— Когда вы женились?
— В 2012-м, моя жена из Ирана. Мне было 40, и было бы странно, если бы после этого я так же активно ездил на конфликты. Конечно, у меня были поездки после этого, но переход прошел чуть-чуть сложнее, чем у моих коллег помоложе, тех, кто занимается более эстетической фотографией.
Как и у солдат, на передовой молодые, 25—30. Когда тебе 45—50, ты уже не солдат, ты «генерал», ты не лежишь в окопах. С возрастом ты становишься с каждым годом менее смелым. Под последним обстрелом я думал: «На *** это все надо? Я хочу делать свою фотографию, и оставьте меня в покое».
С 2015-го делаю историю о наследии Первой мировой войны. Конечно, фотография там получается немного скучной. Зато мы с женой много ездим вместе и не приходится 363 дня в году быть в Афганистане, как раньше.
— Напоследок покажите свою самую последнюю фотографию и расскажите о ней.
 Сахар, жена Томаса ДворжакаФото: Thomas Dworzak
Сахар, жена Томаса ДворжакаФото: Thomas Dworzak
(ответ приводится без редактирования. — Прим. ТД)
— Просто ездили [с женой Sahar Dowlatshahi, на фотографии она, в автобусе Парижа] в день рождения подруга хоть у нас комендантский час еще можно до девяти сейчас и болтали не знаю брат что бы не помню я думаю она бы музыку она кем-то по телефону разговор а ты была вчера вечером.
Еще больше важных новостей и хороших текстов от нас и наших коллег — в телеграм-канале «Таких дел». Подписывайтесь!