«Такие дела» побеседовали о новой этике, институте репутации и театральных заработках с Дмитрием Даниловым — поэтом, писателем, драматургом, автором одной из самых заметных пьес последних лет «Человек из Подольска»
«Мигрирую от центра к окраинам»
— Вы в одном из интервью говорили, что многие воспринимают полицейских в «Человеке из Подольска» как положительных героев. Вообще, я фильм по пьесе смотрел совсем недавно, сразу после разгонов 2 февраля (а до этого же еще был и продолжается милицейский кошмар в Белоруссии, да и вообще мы все знаем, что бывает в полиции), и меня прямо задела вот эта нарочитая неоднозначность в их образах. Ну то есть вот мы тут занимаемся такими интеллектуальными упражнениями про свободу и любовь к малой родине, а в соседнем отделении, возможно, людей пытают.
— Действительно, я довольно часто сталкиваюсь с такими откликами — мол, какие классные полицейские, такие молодцы, они учат чему-то хорошему, мол, полицейские должны быть такими, это идеальная полиция. Меня такие заявления приводят в ужас. Друзья, нельзя человека, ни в чем не повинного, хватать и подвергать психологическому насилию! Но в целом да — я хотел создать какие-то неоднозначные образы. Ну да, полицейские, применяя грубое психологическое насилие, говорят какие-то вещи, над которыми стоит подумать. Они его не патриотизму учат, они его учат тому, что там, где ты живешь, можно увидеть что-то интересное и красивое. Они ему не говорят, что он обязан любить родину, они говорят: «Тебе в Амстердаме нравится, но и в твоем Подольске есть то, что можно любить, чем можно любоваться».
— А надо вообще знать и любить условный Подольск, Долгопрудный, Купчино, Девяткино? Вы, судя по фотографиям в фейсбуке, живете на окраине Москвы?
— Я москвич, постепенно мигрирую от центра к окраинам. Я бы с удовольствием жил поближе к центру, но — возвращаясь к «Человеку из Подольска» — здесь, на окраинах, тоже можно увидеть что-то хорошее. По крайней мере я не испытываю к окраинам отвращения, не рву на голове волосы: «Вот, одинаковые бетонные коробки». Вопрос же в том, как смотреть. Если смотреть взглядом, заранее полным ненависти, все будет ужасно, а если захотеть увидеть что-то хорошее… Ну я стараюсь вглядываться.
— Кто-нибудь сейчас хорошо описывает всю эту культуру окраин?
— Мне сразу на ум пришел прекрасный фотограф Александр Гронский. Он потрясающе описывает именно окраины Москвы, у него очень много работ, посвященных именно московским новым окраинам. Если брать писателей — окраины старой Москвы описывал прекрасный, к сожалению, ушедший от нас писатель Асар Эппель. У него много рассказов про московские окраины 50-х, о том, что сейчас уже не считается окраинами. Про окраинный мир хорошо, хоть и вскользь, писал Юрий Мамлеев.
— Может быть, картины Павла Отдельнова?
— Прекрасно! Очень близкий мне художник, я очень его люблю! Да так если начать вспоминать — можно очень многих назвать.
— Как вам самому кажется, все ваши тексты — пьесы, проза, стихи — как-нибудь объединены в такое общее условное пространство, «Россию Дмитрия Данилова»? Или все же стихи — это стихи, а пьесы — это пьесы и говорить они могут о разном?
— Мне самому трудно ответить на этот вопрос. Более того, мне кажется, автору вообще не очень полезно задумываться над такими вопросами. Если автор будет всерьез морщить лоб и думать, а создал ли я условное пространство «Россия Дмитрия Данилова», то так можно далеко зайти, в том числе до какой-то уже совсем психиатрии. Мое дело как автора — писать то, что в данный момент лично мне самому интересно, а о пространствах лучше рассуждать читателям, критикам.
— Ваше мироощущение как-то изменилось после выхода фильма, кстати? Одно дело — театральный драматург, пусть и известный, а другое — когда по твоей пьесе снимают кино. Ощущается как-то этот выход в, условно говоря, массовую культуру?
— Мироощущение вряд ли как-то изменилось. Просто я почувствовал, что внимание к моей скромной персоне изменилось, стало более пристальным. Я на своем примере почувствовал, насколько у кино мощный медийный эффект. Хотя у театра он тоже велик, надо сказать.
— Вам нравится саундтрек, который был выбран для фильма? Может быть, у вас какие-нибудь другие музыкальные ассоциации с пьесой были? Что вообще сейчас слушаете чаще всего?
— Саундтрек к фильму мне очень нравится. Как и вообще весь фильм. Это отличная работа группы OQJAV, которую я для себя через этот фильм открыл. Напомню, что лидер этой группы Вадик Королев просто потрясающе, на мой взгляд, сыграл главную роль в этом фильме. У меня самого заранее не было каких-то явных музыкальных ассоциаций с этой пьесой, ну разве что музыка упоминаемой в ней группы Einstürzende Neubauten. Что слушаю? Я не то чтобы прямо вот меломан, но у меня есть довольно большие трек-листы во «ВКонтакте» и на ютьюбе, которые постепенно прирастают какой-то новой для меня музыкой. Довольно часто слушаю песни очень любимого мною музыканта из Ростова-на-Дону — моего друга Дениса Третьякова. Раньше мог часами и чуть ли не сутками слушать Егора Летова, но после его ухода делаю это почему-то гораздо реже. Из последних открытий — российские группы Lemonday (она вроде бы уже не существует) и Shortparis.
— Расскажите о своей работе с Театром.doc. Как я понимаю, сейчас это ваши главные партнеры по работе? Как и почему сотрудничаете именно с ними?
— Мои пьесы идут во многих театрах. И когда они идут, это трудно назвать постоянным сотрудничеством: пьесу поставили — и она идет. С Театром.doc нас связывает дружба, я очень люблю этот театр, в нем была первая постановка моей первой пьесы «Человек из Подольска». Это был май 2017 года, ее поставил Михаил Угаров, великий режиссер, новатор театра: мне очень повезло, это была одна из моих главных жизненных удач. Поэтому Театр.doc — это такая первая любовь. Мое сотрудничество с ними сейчас заключается в том, что, во-первых, до сих пор идет моя пьеса, а во-вторых, я участвую в их образовательном проекте Open Doc, я там периодически веду такой короткий интенсивный курс драматургии.
— А в каком количестве театров ставились ваши пьесы?
— Более пятидесяти.
— И какие театры еще можете назвать любимыми, помимо Театра.doc? Может быть, какие-нибудь неожиданные открытия были?
— Из любимых назову «Практику», Мастерскую Фоменко, Воронежский Камерный. Из открытий — Никитинский театр в Воронеже (видите, как много Воронежа в моем списке? У меня действительно складываются хорошие отношения с этим городом), Псковский драмтеатр (хотя, конечно, это очень известный и крупный театр, но я его для себя совсем недавно открыл), частный ульяновский театр Enfant-terrible, Северный драмтеатр им. М. А. Ульянова в крошечном сибирском городе Тара, совсем небольшой частный московский проект «Dрамтеатр НАШ», красноярский «Театр на крыше».
— Если не секрет, литература и драматургия — это ведь и есть ваш заработок сейчас? Насколько вообще сложно этим прокормиться в современной России?
— Существенная часть моего заработка — преподавание литературного мастерства. Ну и частично доходы от театров. Если кому-то кажется, что на этой ниве можно быстро разбогатеть, я должен разочаровать. Может, если бы мои пьесы шли в двухстах театрах… Грех жаловаться, какой-то заработок есть, но все же по большей части он от преподавания. Чисто театральными заработками, чтобы просто на гонорары жить — я даже сомневаюсь, что такие авторы есть у нас в России. Может, и есть.
 Иллюстрация: Алена Змиенко для ТД
Иллюстрация: Алена Змиенко для ТД
Новая этика и тоталитаризм
— Недавно вы публично поддержали манифест режиссера Константина Богомолова. Как думаете, а вправду ли там речь идет о какой-то общей, универсальной «сложности», а не просто о сохранении текущего порядка вещей, не о сохранении статусов теми, кто их уже имеет?
— Я хочу сразу оговориться, что то, что я поддержал этот манифест, вовсе не означает, что я согласен с ним в каждом слове. Вовсе нет. Я считаю, что Богомолов сильно погорячился по поводу Европы и ее конца. Я думаю, она, наверное, когда-то кончится, но мы до этого не доживем и она еще на наших похоронах простудится. Европу все время хоронят — мол, сейчас западная цивилизация закончится. Я не хочу ее заката, я считаю, что Россия тоже часть западной цивилизации. Так что я думаю, что в этом плане он соблазнился риторикой «Запад катится в бездну». Тем не менее я его поддержал. Если очень кратко — потому что он выступил против новой этики. Я тоже к ней отношусь не очень хорошо. Поэтому в основном мое одобрение заключалось вот в этом.
— А можете кратко сформулировать, что именно вы понимаете под новой этикой? Потому что те, кого обычно называют ее сторонниками, как раз постоянно и утверждают, что нет никакой новой этики, что это просто этика, общечеловеческая.
— Новую этику я понимаю так: это этическая система, основанная на нескольких базовых принципах.
Во-первых, разделение всего человечества на сложно сочетающиеся группы «угнетателей» и «угнетаемых». Причем угнетение понимается как продолжающееся, несмотря на фактическое его прекращение, — например, угнетение черных белыми. Принцип распространяется в том числе и на группы, которые реально не участвовали в угнетении, — например, русские, никогда не угнетавшие чернокожих. Система сложна, многие люди могут одновременно принадлежать и к «угнетателям», и к «угнетаемым» — например, находящаяся в традиционном браке белая гетеросексуальная женщина. Абсолютный угнетатель, виновный во всех бедах человечества, — белый цисгендерный гетеросексуальный мужчина, воплощение зла.
Во-вторых, коллективная ответственность «угнетателей». Все люди, записанные в угнетатели, ответственны перед всеми людьми, причисленными к группам угнетаемых. Все белые ответственны перед всеми черными (в том числе современные белые, которые никогда не угнетали ни одного черного), все мужчины — насильники и виноваты перед всеми женщинами, вне зависимости от их личной причастности к насилию над женщинами.
В-третьих, абсолютизация феномена психической травмы. Любой представитель группы «угнетенных» может квалифицировать любое действие или высказывание любого представителя группы «угнетателей» как травмирующее и призвать его к ответу, иногда вплоть до уголовной ответственности.
А еще cancel culture, моральное оправдание практики выдавливания «угнетателей», повинных даже в мелких отступлениях от новой этики, на обочину жизни через изгнание из профессиональных сообществ и подобные меры.
Да, я против новой этики, я считаю, что ее торжество обернется невиданным доселе тоталитаризмом, и это уже сейчас в значительной степени можно наблюдать.
— Насколько это вообще честно — в России бороться в первую очередь с пресловутой новой этикой, а не с реальными, не фейсбучными нарушениями свободы и «сложности»? Увольняют из вузов у нас все же не за харассмент, а за оппозиционность. Да и феминистки из фейсбука никого еще, кажется, в России реально не закенселлили, а вот Дарье Серенко тысячами пишут люди с обещаниями ее убить и изнасиловать. И убивают у нас куда чаще представителей ЛГБТ-сообщества, а консерваторы, зачастую вполне экстремистского толка, почему-то никак не ущемлены и не закенселлены, а продолжают вещать с кафедр и экрана телевизора.
— Я не хочу солидаризироваться с теми, кто призывает к подавлению меньшинств, к ограничению чьих-то прав. Мне это абсолютно чуждо. Но вы говорите — имеет ли смысл сейчас бороться с новой этикой, когда есть проблемы, можно сказать, обратные. Я согласен, что эти процессы есть, но не надо разделять — сначала одно, потом другое. Потому что тогда мы не успеем оглянуться, как наступят какие-то не очень хорошие изменения в интеллектуальной среде.
Опасность наступления на свободы идет с разных сторон. Нельзя говорить, что раз мы живем в не очень свободном, скажем так, государстве, то зачем мы будем бороться с носителями новой этики, не имеющими формальной, государственной власти и поддержки. Это разные вещи. Один вид подавления свободы — когда человека за какой-нибудь оппозиционный перепост в соцсети сажают в тюрьму. А другой вид подавления свободы — это когда человек в чисто интеллектуальном пространстве не может высказать свои идеи, потому что его могут чисто неформальными способами выбросить из профессии. Понятно, что носители новой этики на данном этапе не будут сажать нас в тюрьмы. Но есть такая вещь, как репутация, есть рынок репутации. И на примере развитых стран — понятно, мы тут сильно отстаем, что, может быть, и хорошо, — мы видим, как у людей рушатся карьеры за одно неосторожно сказанное слово. У человека спрашивают: «Вы согласны, что черные жизни имеют значение?» — а он отвечает: «Все жизни имеют значение». После этого он лишается своей работы, своей репутации, на которой он строил карьеру. Вот это страшно, а не то, что «феминистки будут нас убивать».
— Но ведь лозунг All lives matter совсем не однозначный, в американском контексте он рассматривается не как слова за все хорошее против всего плохого, как его пытаются подавать наши официальные СМИ, а как политическое заявление, он же очень сильно эмоционально заряжен.
— Я считаю, что любые лозунги допустимы, как и вообще любые высказывания, пока они не переходят в практическую плоскость. Да, я за свободу слова, как бы экзотично это ни звучало в наше непростое время.
— Однако в итоге все равно получается, что право на свободу слова у нас ущемляется довольно односторонне — достаточно вспомнить хотя бы кейс Юлии Цветковой.
— Ну этот случай, конечно, ужасный. Я, естественно, не могу ничего хорошего об этом сказать, я против любой цензуры, если это кому-то непонятно. Я за свободу слова и самовыражения в рамках нормального закона, в рамках Уголовного кодекса. Но такие ужасные случаи — вот они с одной стороны, а с другой — то, что происходит в фейсбуке и разных сетевых изданиях. Они переполнены достаточно агрессивными высказываниями носителей новой этики, и их никто за это не сажает, и никакой Путин их никуда за это не тащит.
Нельзя сказать, что у носителей новой этики нет рупора. У них рупоров полно. Мне кажется, не стоит из них делать таких несчастных жертв. Они могут пострадать и иногда страдают от режима — это так, и в этом нет ничего хорошего. Но зато в интеллектуальном пространстве, где мы с вами находимся, у них очень большое влияние. Поэтому ситуация неоднозначна.
— А не кажется ли, что интеллектуальное пространство очень сильно сегментировано и где-то у них большое влияние, а где-то нет? И что можно всегда из злого фейсбука со злыми левыми прийти туда, где комфортно? Условно говоря, в журнале «Вопросы литературы» постулаты новой этики не будут иметь ценности.
— При всем уважении к журналу «Вопросы литературы» — я к нему хорошо отношусь — с течением времени влияние журнала «Вопросы литературы» устойчиво снижается. А влияние левых площадок, таких как «Транслит», растет. Вы еще бы сказали про «Наш современник» (хотя, я, конечно, не сравниваю эти два издания). Они тоже новую этику не поддерживают, но это уже даже нельзя назвать интеллектуальным пространством. Я имею в виду какие-то трендовые, условно говоря, модные институции — и там влияние носителей новой этики неуклонно растет.
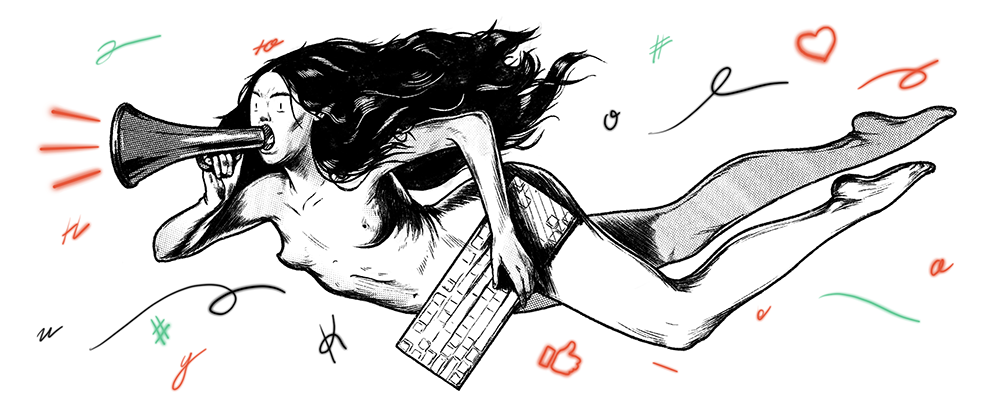 Иллюстрация: Алена Змиенко для ТД
Иллюстрация: Алена Змиенко для ТД
— А почему, вам кажется, так происходит? Почему маргинализируются, условно говоря, правые площадки?
— У меня готового ответа нет. Я не знаю почему. Об этом надо серьезно думать, это тема для целой большой статьи. Мне кажется, корни этого уходят куда-то глубоко в советскую реальность, а то и даже в дореволюционную. Еще до революции в среде русской интеллигенции было модно быть, условно говоря, левым. А правым — немодно. И если мы вспомним того же Розанова, то ему при всех его дарованиях жилось достаточно сложно. И люди таких взглядов всегда были в каком-то углу, а на переднем крае были люди каких-то «прогрессивных» взглядов. Это все перетащилось и в советскую реальность. Мне даже кажется — хотя я не готов это утверждать, — что в Советском Союзе то ли злонамеренно, то ли нет произошла некая отрицательная селекция патриотического фланга. То есть советская власть, с одной стороны, очень поддерживала патриотический дискурс, но с другой стороны, она в этот дискурс тащила самых бездарных, самых отталкивающих людей, за некоторыми исключениями, конечно. И так и получилось.
Почему в СССР уже в брежневские времена появилось такое отвращение к теме патриотизма? Потому что как услышишь про патриотизм и посмотришь на того, кто о нем говорит, — сразу хочется быть от него подальше. А услышишь что-нибудь, условно говоря, антисоветское — и видишь симпатичных, интересных людей на этом фланге. И на правом фланге скапливаются люди, которые не очень понимают, что такое искусство, литература, у которых не очень хорошо с художественным вкусом. А для людей, скажем так, культурно вменяемых, важно и модно быть левым.
— Но ведь это скорее не о «лево-право», а просто об отношении к государственной пропаганде, нет? Более того, мне кажется, что к 70-м именно показной традиционализм стал мейнстримом в интеллектуальных элитах СССР. Все эти прощания с Матерой, народничанье, кресты эти огромные, бороды лопатой — как раз же в отрицание официозного прогрессизма?
— Это все тоже было, да. Но я не уверен, что «показной традиционализм» был именно мейнстримом в интеллектуальных элитах брежневских времен. Я, конечно, сам эти времена застал в детском возрасте, но мне кажется, что это был не мейнстрим, а одно из оппозиционных течений подполья.
— Как вообще в идеале должна работать репутация? Правый и, вероятно, «сложный» Бродский предлагал дать Эзре Паунду премий, а потом повесить. Но Бродский предлагал это делать с позиции силы, он все-таки был в числе победителей, а Паунд — в числе проигравших. И Богомолов (и вы сейчас тоже, кажется) — в отличие от проклинаемых феминисток — говорит с позиции силы, за ним и провластный дискурс, и огромная масса разделяющих его идеи людей, и доступ к каким-то реальным площадкам типа театров. А если такой позиции и таких ресурсов нет? Например, известные истории с харассментом в университетах. Кажется, никто по результатам всех этих скандалов так и не был «отменен»?
— Я не считаю, что говорю с позиции силы. Я литератор. Я пишу стихи, прозу, пьесы. И в моем профессиональном мире невыгодно иметь такие взгляды, как у меня. От того, что мои, скажем так, консервативные взгляды разделяют миллионы водителей грузовиков, продавщиц магазинов и других зрителей телевизора, мне нет никакой пользы, мне это не дает ни одного преимущества. Ни одного плюса не вижу. У нас, у людей моей профессии, вся жизнь проходит в фейсбуке и на страницах разных профессиональных изданий, она не проходит на улице. А вот эти прекрасные женщины-феминистки — с ними мы в одном мире. И в нем гораздо более выгодно быть феминисткой и, шире, носителем новой этики, а не человеком консервативных ценностей.
А если говорить о том, как должен быть устроен институт репутации… Я противник тоталитарного сознания. Я родился и вырос в настоящей тоталитарной империи, в Советском Союзе. Когда Союз распался, мне было двадцать два года, я был взрослым человеком. И в СССР все вещи оценивались, если упрощать, через политику. Писатель оценивался не по его таланту, а по его политической позиции. Я принципиально против этого. Нужно разделять. Прекрасный пример — Захар Прилепин. Когда он написал повесть «Санькя», его все носили на руках, потому что он был такой протестный парень, энбепешник, против Путина. Когда с ним произошла некоторая эволюция, его все дружно объявили бездарностью. Мало кто говорит: «Да, я со взглядами Прилепина не согласен, но он хороший писатель», все говорят: «Да, он бездарность, он Путина поддерживает». В нормальном обществе мы должны говорить: «Мы не согласны со взглядами писателя А., но он прекрасный писатель, и мы ему дадим все премии и, когда будем выбирать лучшего писателя столетия, мы его внесем в список».
Харассмент — это проблема. Не нужно быть феминистом, чтобы видеть, как женщины сплошь и рядом становятся объектами харассмента в современной жизни, начиная с неуместных шуток и заканчивая непристойными предложениями, хватаниями за разные части тела и тому подобное. Я понимаю, что все это есть. Харассмент — это зло, и надо с ним как-то бороться, но я думаю, что, когда харассмент приравнивается к уголовному преступлению, это уже чересчур. Если женщине сделали неприличное предложение, это не значит, что этого человека надо посадить, разорить, выгнать с работы.
— А что нужно?
— В целом это вопрос воспитания, смягчения нравов. По мере повышения уровня жизни это уйдет в прошлое, я надеюсь. Если говорить о таких проблемных зонах, как школа, университет или корпорация, то тут, наверное, имеет смысл вводить четкие и однозначные правила. Они, наверное, уже во многих таких местах вводятся. Это зло, когда преподаватель спит со студенткой, — я даже не буду объяснять почему, это довольно очевидные вещи. Если говорить о преподавателях и корпоративных руководителях, для них должны быть разработаны правила, что можно, а что нельзя. Нельзя вступать в близкие связи с подчиненными.
Я считаю, абсолютно нормально, что человек при поступлении на работу должен подписать свод правил, но санкции не должны быть чем-то большим, чем увольнение — и дальше человек начинает новую жизнь. Если, конечно, не было насилия или чего-то подобного. И университет — это все же очень особая среда, тут есть отношения власти и подчинения. А если просто в кафе сидят люди, и мужчина, сидящий за одним столиком, как-то не так посмотрел на женщину, сидящую за другим, — из этого не надо ничего устраивать. Можно подойти, дать ему пощечину. То есть решить на личном уровне, а не тащить этого человека в суд или еще куда-то.
— А с чисто литературной точки зрения вы готовы признать, что среди защитников новой этики есть хорошие авторы? Галина Рымбу, Оксана Васякина — это хорошая поэзия?
— Конечно! Разумеется! Рымбу — прекрасная поэтесса, и Васякина — прекрасная поэтесса. Я не связываю взгляды и талант, талантливым человеком может быть человек с любыми взглядами.
Еще больше важных новостей и хороших текстов от нас и наших коллег — в телеграм-канале «Таких дел». Подписывайтесь!
